|
В Петрозаводске нет памятника Шарлю Лонсевилю. Может, и не было
— никто из старожилов не помнит. Петровский завод точно был, а
теперь его нет. А вот Петрозаводск есть. Когда в городе нет интересной
архитектуры, вежливые люди говорят, что он очень зелёный. Когда
местные раритеты можно перечесть по пальцам, — что там мало машин
и чтят пешехода. Петрозаводск зелёный, и машин мало, и здания
— не ах! Милый очень город. Во всяком случае летом, при солнце
и когда тепло. И с достопримечательностью, которую на пальцах
не сочтешь, разве что на карте-миллионке. Хорошо, когда город
у большой воды. А вода большая. Онего. Онежское озеро, почтительно
очеловеченное — губы, носы. Очень почтительно: камни, капризный
фарватер, неожиданные шквалистые ветры. Серьезное озеро. Массовый
туризм ещё не заглотал его целиком, как какой-нибудь Селигер.
Он здесь ещё робко жмется к рейсам речфлота. Говорят, в Кижах
гадюки были. Ну, на северном конце острова, может, какая ещё и
есть, а уж на южной — исключительно лирика и статистика.

Лирика — это девушки-лебедушки, которые ещё друженьки-подруженьки,
под водительством Ленфильма, Мосфильма или ещё кого-то развёртывали
действо, наглядно демонстрировавшее, что безответная любовь разрушает
коллектив. Почему-то их было восемь. Жарко (а каково в кокошниках
и прочих робах по пять-семь дублей), с магнитофона северные напевы
в добротном академическом исполнении, фоном серебрящийся лемех
погоста и умеренный интерес экскурсантского люда. И ни одного
кадра в аппарате — поверьте на слово.
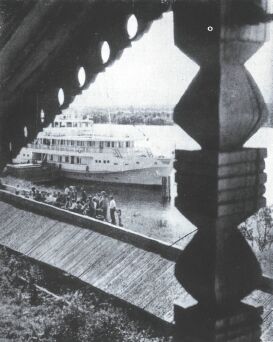 Лирика
— это два очень юных и нечеловечески вежливых сержанта милиции
с мегафонами, умоляющие граждан-посетителей не раздеваться, не
загорать и не купаться на территории музея. Пустое, конечно, дело
— монументальные граждане обоего пола, уважая власть, делают томные
движения к тряпкам, натюрмортно брошенным в усохшей траве, и снова
замирают. Ещё сержанты просят курить только в «отведенных» местах.
Почти все выполняют — то ли потому, что уж слишком очевидно, как
всё это может полыхнуть, то ли потому, что «отведено» очень заботливо:
пеньки или скамейки, посредине гигантская ожелезенная пепельница.
Ещё лирика — это маленькое новое кладбище, откуда «Преображение»
точь в точь, как макет пирамиды Хеопса, из которого проросли тюльпаны.
Отсюда масштаб теряется, сравнить не с чем. Издали монументально,
вблизи камерно, очень всё маленькое и уютное и кажется меньше,
чем на самом деле. На кладбище языческий обряд поминок-тризны,
тихий, строгий. Основной турист сюда не доходит — далеко и в горку. Лирика
— это два очень юных и нечеловечески вежливых сержанта милиции
с мегафонами, умоляющие граждан-посетителей не раздеваться, не
загорать и не купаться на территории музея. Пустое, конечно, дело
— монументальные граждане обоего пола, уважая власть, делают томные
движения к тряпкам, натюрмортно брошенным в усохшей траве, и снова
замирают. Ещё сержанты просят курить только в «отведенных» местах.
Почти все выполняют — то ли потому, что уж слишком очевидно, как
всё это может полыхнуть, то ли потому, что «отведено» очень заботливо:
пеньки или скамейки, посредине гигантская ожелезенная пепельница.
Ещё лирика — это маленькое новое кладбище, откуда «Преображение»
точь в точь, как макет пирамиды Хеопса, из которого проросли тюльпаны.
Отсюда масштаб теряется, сравнить не с чем. Издали монументально,
вблизи камерно, очень всё маленькое и уютное и кажется меньше,
чем на самом деле. На кладбище языческий обряд поминок-тризны,
тихий, строгий. Основной турист сюда не доходит — далеко и в горку.
Статистика — это до полутора тысяч посетителей в погожий летний
день. Это шесть рейсов «метеоров» и один — двухпалубной «Ладоги»,
и через день теплоход из Ленинграда. Это три четверти (на глаз:
оценки автора и музейных работников полностью совпали, а всерьёз
ещё только собираются исследовать), которые через пять минут решительно
не могут сообразить, зачем сюда приехали, но в большинстве кучно
бродят экскурсиями, давая внештатным экскурсоводам честно зарабатывать
нелёгкий хлеб. Вежливо ходят, тихо.
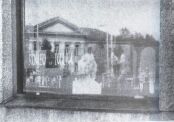 Статистика
— это цифры. Цифры неотделимы от массового туризма. Цифры успокаивают,
создают ощущение познавания: бревна по 20 метров, почти без сужения
к комлю, расширения и утолщения, гвозди есть и много, столько
же, сколько осинового лемеха — 40 000; два внутренних водоотвода,
строили (по аналогии со сгоревшим в Кондопоге) человек 30, года
три; в доме Ошевнева жила семья в 25 человек... Лирика (или это
уже романтика?) — это старушка, внедрившаяся в негустую группу
туристов из ленинградского домостроительного комбината. Группа
(устами неформальных лидеров) сначала возражала экскурсоводу:
«Нет, нет, смотреть, так во всех подробностях», а через пять минут
тактично спросила: «А сколько вы нас будете здесь держать?» Группы
не все такие, просто мне не повезло, и Юре-экскурсоводу было передо
мной очень неловко, как будто он её специально отбирал. Так вот,
старушка, услышав об иконе со старцами Зосимой и Савватием, вдруг
заволновалась, попросилась подойти к ней помолиться, оступилась
и, стараясь сохранить равновесие, ухватилась за резную колонку
иконостаса. Домостроители даже вперед подались с лавочек — сломала
или не сломала? Не сломала, ухватилась за тот кусок, где колонка
уже была заменена железной трубой. Статистика
— это цифры. Цифры неотделимы от массового туризма. Цифры успокаивают,
создают ощущение познавания: бревна по 20 метров, почти без сужения
к комлю, расширения и утолщения, гвозди есть и много, столько
же, сколько осинового лемеха — 40 000; два внутренних водоотвода,
строили (по аналогии со сгоревшим в Кондопоге) человек 30, года
три; в доме Ошевнева жила семья в 25 человек... Лирика (или это
уже романтика?) — это старушка, внедрившаяся в негустую группу
туристов из ленинградского домостроительного комбината. Группа
(устами неформальных лидеров) сначала возражала экскурсоводу:
«Нет, нет, смотреть, так во всех подробностях», а через пять минут
тактично спросила: «А сколько вы нас будете здесь держать?» Группы
не все такие, просто мне не повезло, и Юре-экскурсоводу было передо
мной очень неловко, как будто он её специально отбирал. Так вот,
старушка, услышав об иконе со старцами Зосимой и Савватием, вдруг
заволновалась, попросилась подойти к ней помолиться, оступилась
и, стараясь сохранить равновесие, ухватилась за резную колонку
иконостаса. Домостроители даже вперед подались с лавочек — сломала
или не сломала? Не сломала, ухватилась за тот кусок, где колонка
уже была заменена железной трубой.
Лирика — это девиз Речфлота «В Кижи за 1 час 15 минут».
Это — сравнения: главки — как двадцать две свечи. Это оживляющие
воображение истории про буйствовавших здесь когда-то попов,
действительно, по документам судя, редкостных охальников
и злодеев[1].
 Лирика
(или романтика) — это гидросамолёты, шикарным разворотом
взлетающие с восточной протоки и уходящие на Петрозаводск;
треск фотозатворов на палубах швартующихся к причалу судов.
Это клич сержанта: «Кто забыл зонтик с
розовой ручкой?» Или «Эту не будем смотреть, это новая»
(на церковь Лазаря Муромского, старейшую из сохранившихся
в нашей стране[2].
Правда, после недавней реставрации церковка выглядит новёхонькой).
Или ещё смена настроений: «Ты погляди,
ты погляди, какая работа!» — потом, увидев замок: «Дом
реставрируется? Это нас не касается. 40 копеек заплатили,
и ничего буквально не показывают!» Лирика, современная,
без обмана, это подлинный интерес к технологическим подробностям
— например, поперечная рубка топором в отличие от распилки
сдавливает концы капилляров древесины и надёжно предохраняет
сруб от влаги. Именно это запоминается лучше всего (проверено
в разговорах на обратном пути в Петрозаводск). Это красивая
партия бадминтона на фоне «Преображения». И гитары звон
по кустам. Всё это нормально. И лирика, и статистика становятся
возможными благодаря бесконечным заботам. Дирекции трудно
— заповедник, бывший под началом Минкоммунхоза (у которого
и машины, и рабочие, и умение, и организация), передан
Министерству культуры в незавершённом виде. Здесь научные
сотрудники заняты всем. Нужно скосить траву на всём острове:
перестоится, тогда одна искра — и уже не спасешь; зимой
расчищать дорожки в глубоком снегу, подвозить, строить,
охранять. Это не просто дела. Это растворы для пропитки
дерева, техника, горючее, деньги, связь с «материком», продукты
для ресторана, строительство административного корпуса —
им ведь жить здесь по семь-восемь месяцев в году, а в теперешнем
доме всего пара комнат действительно тёплых. Ко всему этому
нужно добавить угнетающе однообразные группы эскурсантов,
где каждое исключение запоминается надолго. Но, к счастью,
к этому можно прибавить настоящее удовлетворение от точного
ощущения, что человек пять-десять-пятнадцать на сотню Кижи
задели за живое. Лирика
(или романтика) — это гидросамолёты, шикарным разворотом
взлетающие с восточной протоки и уходящие на Петрозаводск;
треск фотозатворов на палубах швартующихся к причалу судов.
Это клич сержанта: «Кто забыл зонтик с
розовой ручкой?» Или «Эту не будем смотреть, это новая»
(на церковь Лазаря Муромского, старейшую из сохранившихся
в нашей стране[2].
Правда, после недавней реставрации церковка выглядит новёхонькой).
Или ещё смена настроений: «Ты погляди,
ты погляди, какая работа!» — потом, увидев замок: «Дом
реставрируется? Это нас не касается. 40 копеек заплатили,
и ничего буквально не показывают!» Лирика, современная,
без обмана, это подлинный интерес к технологическим подробностям
— например, поперечная рубка топором в отличие от распилки
сдавливает концы капилляров древесины и надёжно предохраняет
сруб от влаги. Именно это запоминается лучше всего (проверено
в разговорах на обратном пути в Петрозаводск). Это красивая
партия бадминтона на фоне «Преображения». И гитары звон
по кустам. Всё это нормально. И лирика, и статистика становятся
возможными благодаря бесконечным заботам. Дирекции трудно
— заповедник, бывший под началом Минкоммунхоза (у которого
и машины, и рабочие, и умение, и организация), передан
Министерству культуры в незавершённом виде. Здесь научные
сотрудники заняты всем. Нужно скосить траву на всём острове:
перестоится, тогда одна искра — и уже не спасешь; зимой
расчищать дорожки в глубоком снегу, подвозить, строить,
охранять. Это не просто дела. Это растворы для пропитки
дерева, техника, горючее, деньги, связь с «материком», продукты
для ресторана, строительство административного корпуса —
им ведь жить здесь по семь-восемь месяцев в году, а в теперешнем
доме всего пара комнат действительно тёплых. Ко всему этому
нужно добавить угнетающе однообразные группы эскурсантов,
где каждое исключение запоминается надолго. Но, к счастью,
к этому можно прибавить настоящее удовлетворение от точного
ощущения, что человек пять-десять-пятнадцать на сотню Кижи
задели за живое.
 «Второй
раз еду, чтобы на неё посмотреть», — произнёс в никуда человек,
прицеливаясь киноаппаратом с борта «Ладоги». Почему, собственно,
принято считать, что таких должно быть много, ведь это стало бы
нарушением главного закона популярной культуры — закона разнообразия.
Когда я писал о Суздале, то, несомненно, переоценил насыщенность
информацией, утверждая, что видение полностью превращается в опознание
уже виденного. Среди пассажиров было изрядное количество таких,
кто всё допытывался, а что там в Кижах есть, хотя, даже не говоря
о кинохронике, газетах и прочем, и в городе и на причале есть
плакаты Речфлота; судовой радиоузел в течение часа исправно сообщал
об окружающем и предстоящем, и все считают долгом купить туристскую
схему Карелии, где всё это доступно изображено. Может, это специфическая
расслабленность внимания в обстановке досуга, может, привычка
воспринимать информацию как общий шум, содержание которого не
имеет существенного значения, но наличие необходимо? Не знаю.
Такую же бодрость вселяет бурная сувенирная деятельность. Сувенир
в спросе, но, за исключением малоимущей и наивной молодежи, никто
довольно дорогих подсвечников и художественно раскрашенных
псевдокухонных предметов не покупает. Открытки покупают и ещё
шарики с дырочкой, в которые успешно загнан весь заповедник да
ещё в цвете — больше в Кижах не было ничего. А по наблюдениям
многих экскурсант легко вкладывает в сувениры капитал в пределах
99 копеек. И не потому, что денег свободных нет — рестораны «Ладоги»,
обслуживающие «неорганизованных» с 11 часов, брали штурмом отнюдь
не вегетарианцы и не абстиненты. Тут срабатывают какие-то застарелые
психологические тормоза — в городе покупают дороже, а в дороге,
на экскурсии не покупают. Кто его знает, почему. Пока спрос превышает
предложение, всякие разговоры о художественных достоинствах мало
целесообразны: покупают знак, символ пребывания, а какой
он, мало кого волнует. «Второй
раз еду, чтобы на неё посмотреть», — произнёс в никуда человек,
прицеливаясь киноаппаратом с борта «Ладоги». Почему, собственно,
принято считать, что таких должно быть много, ведь это стало бы
нарушением главного закона популярной культуры — закона разнообразия.
Когда я писал о Суздале, то, несомненно, переоценил насыщенность
информацией, утверждая, что видение полностью превращается в опознание
уже виденного. Среди пассажиров было изрядное количество таких,
кто всё допытывался, а что там в Кижах есть, хотя, даже не говоря
о кинохронике, газетах и прочем, и в городе и на причале есть
плакаты Речфлота; судовой радиоузел в течение часа исправно сообщал
об окружающем и предстоящем, и все считают долгом купить туристскую
схему Карелии, где всё это доступно изображено. Может, это специфическая
расслабленность внимания в обстановке досуга, может, привычка
воспринимать информацию как общий шум, содержание которого не
имеет существенного значения, но наличие необходимо? Не знаю.
Такую же бодрость вселяет бурная сувенирная деятельность. Сувенир
в спросе, но, за исключением малоимущей и наивной молодежи, никто
довольно дорогих подсвечников и художественно раскрашенных
псевдокухонных предметов не покупает. Открытки покупают и ещё
шарики с дырочкой, в которые успешно загнан весь заповедник да
ещё в цвете — больше в Кижах не было ничего. А по наблюдениям
многих экскурсант легко вкладывает в сувениры капитал в пределах
99 копеек. И не потому, что денег свободных нет — рестораны «Ладоги»,
обслуживающие «неорганизованных» с 11 часов, брали штурмом отнюдь
не вегетарианцы и не абстиненты. Тут срабатывают какие-то застарелые
психологические тормоза — в городе покупают дороже, а в дороге,
на экскурсии не покупают. Кто его знает, почему. Пока спрос превышает
предложение, всякие разговоры о художественных достоинствах мало
целесообразны: покупают знак, символ пребывания, а какой
он, мало кого волнует.
 Везде
разные оценки: один в Петрозаводске заметит табличку автобусной
остановки с нарисованным на ней неопределённым фруктом и надписью
«детский маршрут», чистоту и уют обычных столовых. Другой — что
в книгах жалоб и предложений жалуются на всё, что угодно, но не
на надпись «иностранные туристы обслуживаются вне очереди». Можно
заметить, что повторение надписи на памятнике неизвестному солдату
неприятно задевает, вспомнив, что в других странах такой памятник
всегда только один, а можно решить, что, наоборот, именно это
тиражирование придает необходимый масштаб запоздалому явлению
в условиях нашей культуры. Можно увидеть, что наибанальнейший
памятник Марксу и Энгельсу неожиданно уютно устроился под очень
соразмерными ему деревцами, памятник Ленину лучше всего виден
со спины, а памятник Кирову на чересчур большой площади крайне
неудачно «срезан» фронтоном театра, и стоять бы ему не по оси
между театрами, а справа, у слишком маленькой и случайной трибуны.
А можно от всего Петрозаводска лучше всего запомнить оранжевое
днище яхты, которую торжественные парни замедленно ставили на
воду. Всякое восприятие имеет право на существование и ошибочным
быть не может. Безграничное разнообразие внутри единой культуры
является главным условием её интенсивного развития, создаёт возможности
для любой культурной инициативы. В стране в целом и в каждом её
уголке в отдельности эти возможности существуют, их нужно лишь
осознать и использовать. Петрозаводский, а официально Карельский
государственный краеведческий музей это и осознает, и использует.
Я не касаюсь здесь большой, сложной и кропотливой работы, которую
лучше или хуже осуществляет любой музей: сбор экспонатов, перестройка
экспозиции, фонды, научные экспедиции и исследования. Интересно
другое — музей осуществляет важнейшую культурную функцию, собирая
вокруг себя советы ветеранов, организуя десятки встреч с молодежью,
но это уже тоже стало обычным. Необычно, что музей активно создаёт
своего посетителя, выходит ему навстречу, не удовлетворен потоком
внешних туристов и формально-обязательными «культпоходами» школьников.
По договоренности с Университетом и Пединститутом, первый день
учебы для студентов проходит в музее — люди, съехавшиеся со всей
Карелии, часто впервые получают ёмкое представление о своей республике
как общем, целом, едином. Музей же организует встречи студентов
с учёными и деятелями искусства. Музей стал своим домом для множества
действительных энтузиастов, которые за свой счет, больше того,
за счёт своего отпуска, создают полный свод памятников с обмерами,
фотоанализом и описаниями. В музей мало ходили заводские, тогда
люди музея пошли на предприятия, организовали «дни открытых дверей»,
рассказы и встречи, писали в многотиражках, проводили книжные
лотереи. Люди пошли в музей, сначала группами, потом (часть конечно)
сами, с семьями. За год статистически через музей проходит число
людей, равное одной седьмой Петрозаводска, это пропорционально
равно Третьяковской галерее. Как важен становится музей, когда
люди хотят узнать; ещё важнее, когда хотят научить. К кассе подошел
мужчина с девочкой лет шести и, взяв билет, уточнил, на каком
этаже первобытно-общинный строй: «Хочу ей показать».
В книге отзывов есть запись: «Воины-пограничники
внимательно прослушали выступление и с большим интересом старались
познать историю и богатство края, который мы охраняем». Везде
разные оценки: один в Петрозаводске заметит табличку автобусной
остановки с нарисованным на ней неопределённым фруктом и надписью
«детский маршрут», чистоту и уют обычных столовых. Другой — что
в книгах жалоб и предложений жалуются на всё, что угодно, но не
на надпись «иностранные туристы обслуживаются вне очереди». Можно
заметить, что повторение надписи на памятнике неизвестному солдату
неприятно задевает, вспомнив, что в других странах такой памятник
всегда только один, а можно решить, что, наоборот, именно это
тиражирование придает необходимый масштаб запоздалому явлению
в условиях нашей культуры. Можно увидеть, что наибанальнейший
памятник Марксу и Энгельсу неожиданно уютно устроился под очень
соразмерными ему деревцами, памятник Ленину лучше всего виден
со спины, а памятник Кирову на чересчур большой площади крайне
неудачно «срезан» фронтоном театра, и стоять бы ему не по оси
между театрами, а справа, у слишком маленькой и случайной трибуны.
А можно от всего Петрозаводска лучше всего запомнить оранжевое
днище яхты, которую торжественные парни замедленно ставили на
воду. Всякое восприятие имеет право на существование и ошибочным
быть не может. Безграничное разнообразие внутри единой культуры
является главным условием её интенсивного развития, создаёт возможности
для любой культурной инициативы. В стране в целом и в каждом её
уголке в отдельности эти возможности существуют, их нужно лишь
осознать и использовать. Петрозаводский, а официально Карельский
государственный краеведческий музей это и осознает, и использует.
Я не касаюсь здесь большой, сложной и кропотливой работы, которую
лучше или хуже осуществляет любой музей: сбор экспонатов, перестройка
экспозиции, фонды, научные экспедиции и исследования. Интересно
другое — музей осуществляет важнейшую культурную функцию, собирая
вокруг себя советы ветеранов, организуя десятки встреч с молодежью,
но это уже тоже стало обычным. Необычно, что музей активно создаёт
своего посетителя, выходит ему навстречу, не удовлетворен потоком
внешних туристов и формально-обязательными «культпоходами» школьников.
По договоренности с Университетом и Пединститутом, первый день
учебы для студентов проходит в музее — люди, съехавшиеся со всей
Карелии, часто впервые получают ёмкое представление о своей республике
как общем, целом, едином. Музей же организует встречи студентов
с учёными и деятелями искусства. Музей стал своим домом для множества
действительных энтузиастов, которые за свой счет, больше того,
за счёт своего отпуска, создают полный свод памятников с обмерами,
фотоанализом и описаниями. В музей мало ходили заводские, тогда
люди музея пошли на предприятия, организовали «дни открытых дверей»,
рассказы и встречи, писали в многотиражках, проводили книжные
лотереи. Люди пошли в музей, сначала группами, потом (часть конечно)
сами, с семьями. За год статистически через музей проходит число
людей, равное одной седьмой Петрозаводска, это пропорционально
равно Третьяковской галерее. Как важен становится музей, когда
люди хотят узнать; ещё важнее, когда хотят научить. К кассе подошел
мужчина с девочкой лет шести и, взяв билет, уточнил, на каком
этаже первобытно-общинный строй: «Хочу ей показать».
В книге отзывов есть запись: «Воины-пограничники
внимательно прослушали выступление и с большим интересом старались
познать историю и богатство края, который мы охраняем».
Можно улыбнуться казённой пышности оборотов (нужно учесть, что
запись, наверное, сделана командиром роты или комсоргом), и всё
же в этой фразе есть настоящее.
|