Лекция
№6. Бульвар и его окрестности16.02.2000 Глазычев
В.Л.: Итак, господа, как всегда, я просил вас прошлый раз подумать о путях
решения некоторой открытой задачи. Кто эту просьбу выполнил? Никто? Сложна
задачка? Каков может быть субмуниципальный уровень управления в наших сегодняшних
условиях? Уверяли, что вопрос понятен. Что такое субмуниципальный уровень?
Слов употребляется много — в перечислениях, которыми обычно занят законодатель.
Названы, чуть ли не подъезды, да, дома — домкомы, уличкомы (в стране есть и такая
схема), дальше — территориальные общины, между ними затесались ТСЖ — товарищества
собственников жилья, и они же почему-то названы кондоминиумами… Вопрос, заключался
не в том, что и где поименовано, потому что, такого рода спискам нет границ. Вопрос
был по существу. Если есть хотя бы номинально нечто под названием местное самоуправление,
и оно в равной степени относено к волости, селу, городу ранга Новосибирска, то
что или кого считать субъектом управления? В отработанной европейской системе,
там, где территориальное самоуправление не вводилось “сверху”, а вырастало из
гигантской традиции, существуют определённые, понятные, натуральные или функциональные
правила построения такого субъекта. Ну, скажем, что является округом? То сообщество,
что в состоянии поддерживать школу из своих налогов. Из зала:
Церковь? Глазычев В.Л.: Да, возможно, — там где она сформировалась
из приходской деятельности снизу, не как государственный институт на российский
манер. Есть простой индикатор — в европейской, а в особенности в американской
церкви именно церковное здание выступает как наиболее естественное место для общественного
собрания. Помыслить об этом в российских условиях невозможно. Понятно, что церковный
приход и школьная деятельность совмещались, и ассоциация приходов могла перерасти
в школьный округ. По мере того как наращивались общественные функции здравоохранения,
санитарии, и эти первичные функции по возможности накладывались на округ, и только
в наше время больших систем сложные технологические конструкции оказались непосильными
для низовых корпораций соседей. Территориальное самоуправление есть то
минимальное сообщество, которое в состоянии корпоративно осуществлять задачи самообеспечения
базовыми гражданскими услугами. Любопытно, что в зависимости от богатства страны
и от культурной традиции физические величины этого рода общности очень различны.
В Голландии — 600 домохозяйств, в Великобритании — порядка 2000 душ. А когда четверть
века назад город Вашингтон вводил территориальное самоуправление и учредил “соседские
согласовательные комиссии”, такие специфические округа были нарезаны из расчета
округ на 11.000 жителей, избирающих одного советника на 1.500 душ. Иными
словами, это очень тонкая действительность, в которой важны и степень экономического
развития домохозяйств, наличие традиционных институтов самоуправления или их отсутствие,
наличие психической настройки на корпоративность или её отсутствие. В Германии
субмуниципального уровня в большинстве земель нет — достаточно одной муниципальной
системы управления, а участие жителей помимо, обычной схемы выбора представителей,
представлена формальными общественными организациями. Поэтому возникает
очень любопытный клубок вопросов. Когда у нас законодатель допустил возможность
формирования субмуниципального уровня, он исходил из некоторого благого намерения:
обеспечить соучастие жителей. И вопрос, который я задавал вам, — открытый. Мы
можем его отложить до весны. Вот вам пустая матрица. Впишите в нее содержание.
Когда нет ценностно-ориентированного ответа на такой вопрос, на его место приходят
“ад хок проекты”. В одних городах уличкомы в какой то степени воссоздают память
об слободских структурах, о кулачных боях, или о церковных приходах. В каких-то
местах этого напрочь нет, но закладываются полицейские схемы, подъездные, домовые
— на языке вист слово “квартальные”, но нет ясно выраженных кварталов. Параллельно
бюрократическому проектному творчеству складываются иные, самоорганизованные сущности,
вроде “территориальной общины”. Сегодня они сталкиваются: проектные (начальством
задаваемые), и низовые — теперь уже тоже проектные, так как формирует их не некоторый
стихийный сход жителей, а группы, профессионально мыслящие в проектных и конструктивных
категориях. Вполне тривиальны ситуации Косино (недавно ещё загородная, приписанная
к Москве территория), где новая законная (по Уставу Москвы) власть главы Управы
естественным образом стремится упрочиться, демонтируя структуру, выросшую из комитетов
общественного самоуправления призыва 1989 года. Короткая, десятилетняя, но всё же традиция формирования общественных институтов с их специализированными комиссиями
— экологической и пр. оказалась перед серьёзнейшей угрозой. Две проектные
модели сосуществуют в одном пространстве, при этом у одной — авторитет и технические
возможности власти, у второй — гражданское ощущение, что власть всегда человека
обманывает. Заданный мной вопрос — открытый, и у меня нет на готового ответа.
Есть лишь проблемное поле, есть опытное знание того, что одним линейным управлением
сверху, в отсутствие прусской традиции аккуратного исполнения чиновником своих
служебных обязанностей, проблемы города не решаются. Если проблемное поле не заполнено,
то чем заполняется вакуум проектного мышления, не имеющего ценностной подкладки,
не имеющей европейской исполнительской традиций, когда чиновник — слуга при калитке
закона? В идеале, чиновник вообще воли не имеет, определяя лишь то, соответствует
нечто норме или не соответствует. Мы имеем ситуацию нормативно “жидкую”: законов
много, но есть привычка судить “не по закону, а по совести”. Без серьёзной отстройки
субмуниципального уровня только эта привычка будет по-прежнему предопределять
историю нашей страны на десятки лет вперед. И именно этот сюжет оказывается вообще
вне обсуждения — мы вернёмся к нему, обсуждая управленческие игры с городом и
их проектную компоненту. ***Глазычев В.Л.:
Теперь сегодняшняя тема. Мы начали с того, что предметные и пространственные компоненты
как правило недооценены, недоосмыслены в их конструктивной роли, и потому я стараюсь
находить в толще культуры те предметно-пространственные реальности, которые переносят
на себе опыт социальной практики управления и регулирования. Такого рода реальности
достаточно устойчивы. Пока существовала схема западного средневекового
города, не только западного, но и восточного тоже (мы просто меньше его знаем),
его подлинная структура проявлялась через корпорацию корпораций — цеховых объединений.
Не совместное проживание порождало ту или иную функцию, но общее занятие порождало
и совместное проживание. Соображения защиты цеховых свобод подталкивали всякую
корпорацию к пространственному обособлению. Слободы были и в России (кожевенная,
столовая и др.), но здесь они дворцовые, или казённые (стрелецкие, пушкарские),
тогда как в Европе они самодостаточны достаточно давно. Корпорация, цех, гильдия
(называться они могли по разному) имела зал собраний важнейшей формой демонстрации
своей внутренней интегральности. Без этого клубного элемента корпорация рассыпалась.
Зал — место ритуальных встреч, очень важных, потому что они подчеркивают самоидентификацию
корпорации. Огромный массив живописи, особенно голландской, изображает клубное
общение, подтверждение корпорации как социального института, без удержать формализованные
схемы типа цехового устава (он был, он регистрировался в ратуше) было бы невозможно.
В противном случае контролёром оказалась бы одна лишь ратуша. Сохранение
автономии корпорации как ценности получало опредмеченную и символизованную (в
геральдике, в живописи) культурную выраженность, а город как целое, как корпорация
корпораций, демонстрировал свою структуру через процессии, где цеховая группа
идентифицировала себя в сопоставлении с другими. Приглядитесь к живописи, в которой
достаточно подробно явлены знаменитые флорентийские или венецианские шествия.
Идут шапочники, мясники, ткачи и прочие и прочие. Идут все. Они друг другу демонстрируют
цельность корпорации. Это был могучий институт, который работал в течение многих
веков все более изощренным образом. Сегодня от этого остались туристические муляжи,
сегодня это — маскарад. Сегодня это скорее имитация формы. Часто очень верная
имитация: в Сиене давно уже квартальные общины являются носителями когда-то цеховых
ритуальных форм. В советское время работала та же схема имитации: на демонстрации
шли Ленинский район, Октябрьский район, Первомайский район и пр. Внутри такой
колонны двигались, к примеру, члены квазикорпорации под названием завод “Серп
и молот”. Имитация не структуры, но её внешней формы, так как двигались рядом
советские служащие, пребывавшие почти в идентичном статусе. В четырнадцатом веке
цеховые объединения были совершенно спаянным единым механизмом, где поведение
каждого регламентировалось поведением всех. И вот происходит знаменитый
процесс распада корпоративной цеховой гармонии. Кстати: А в чем, собственно
причина и механизм распада цеховой гармонии? Она ведь, казалось бы,
идеально работала, была изощренной до предела. Когда каждая операция была расписана
в городской стандарт: как сделать бочку, и какого качества должны быть стеклянные
сосуды, и какой экзамен должен был сдать ткач на право войти в “клуб” мастеров.
Удивительно совершенная отточенная система, которая рушится. Элементы ее, как
символические рудименты, существуют до сих пор, но как система она к Новому времени
распадается, и цеховая структура сохраняется только как лирическое воспоминание.
Очень любопытен вопрос о подлинной причине этого краха. Любые учебники истории
дают ответ на этот вопрос. Он меня не устраивает. Обычно в учебнике написано “Под
давлением развития капиталистических отношений”. В этом есть доля правды. Но что
это обозначает — вот это как раз и интересно. Поэтому я хочу услышать Вашу точку
зрения. Но сегодня мне важно зафиксировать: это произошло. Цеховая структура,
номинально сохраняясь (в Германии она пережила объединение страны в конце 19-го
века сугубо внешне), ушла как структура человеческого объединения. Существовало
вторичное, побочное свойство всякого рода процессий. Да, структурно процессия
идентифицировала цех, да, структурно она ещё идентифицировала территорию. Но была
ведь и культурно-зрелищная сторона этого явления. Копрорации обозначали себя гербами
одеждой, знаменами — множеством элементов чисто визуального богатства. Число процессий
в году достигало ста, так что, грубо говоря, каждый четвёртый день происходила
какая-то процессия. Это уже повседневный элемент бытия, норма жизни, в отличие
от упоминавшегося в прошлой лекции венецианского карнавала.
Особенность культуры в том, что она в общем ничего старается
ничего не терять, как если бы она волей располагала. За
исключением революционных периодов, когда это все “бабушкины
шкафы” идут на помойку [1].
Цеховая структура процессий пострадала в первую очередь
в странах Реформации, где, вместе с отказом от декора церквей,
на время воцарялась демонстративная скромность в одежде.
В местах, где происходили столкновения традиционной католической
и протестантской культур, следовало ожидать появления нового.
[Бульвар]Париж
был как раз таким местом, и именно в Париже появляется новый тип городского пространства
- Бульвар. Автором бульвара можно считать Екатерину Медичи, злую героиню трилогии
Дюма. При парижском дворе Медичи создаётся первый бульвар, следов от которого
уже давно нет. А, собственно, что такое бульвар? Примитивный ответ ясен:
некоторая череда деревьев по обе стороны дороги, выделенной из внешнего окружения.
Но это же не ответ. А что собой представляет бульвар, как ядерная форма пространства?
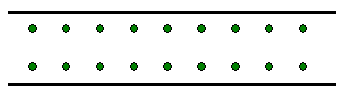
Сама
по себе схема никогда не возникает как следствие прямой проектной воли. Она обязательно
оформляет скрытую потребность — невнятную, лишённую формы. Вакуум, бедность городской
среды, возникший в силу отмирания классической цеховой процессии, начал заполняться
совершенно особым образом. Любопытно, что прототип бульвара как социального института
возник не в Париже, а в Риме. Главным зрелищем Рима эпохи позднего ренессанса
был парадный выезд кардиналов из их дворцов в Ватикан. Это система процессуального
оформления движения из точки А в точку Б, которая должна была нести в себе все
признаки величия, знаковой его предъявленности. Это — на полмили череда карет
со слугами, ассистентами, их охраной, её ливреями, гербами. Так новая феодальная
система, выросшая над потерявшей значение цеховой системой символизации, создала
нечто, что для городского зеваки стало главным ежедневным зрелищем. Добрых два-три
десятка кардиналов, едущих из своих дворцов к Ватикану, создают некую, ритуально
повторяющуюся динамику, позволяющую из некоторых точек на это глазеть.
Великая функция городского пространства — “глазеть”. Сегодняшние король бейсбола,
рок-группа или кто-то столь же важный для массовой культуры играют такую же роль,
что и римские кардиналы 16-го века. Рим создал этот спектакль по вполне
понятным причинам. Он имел центр вселенского притяжения — папский престол. Вся
система ритуалов отстроена вокруг него наиболее изящным образом, полнее, чем вокруг
светской власти. Для пространственного оформления “трибун” — тротуаров, с которых
можно было глазеть на главное зрелище города и мира, — пробивается широкая улица
— Корсо. Париж ставит на место папского двора королевский, но это был тесный,
плотно застроенный город, где физически не было места для тротуаров-трибун. Лувр
— совсем не такой, каким его можно видеть сегодня — обстроен со всех сторон. И
возникает удивительной новизны идея — выстроить ритуальное пространство линейным
образом. Возникает бульвар, как протяженное место, по которому могут двигаться
придворные будучи достойным зрелищем для жителей разросшегося города, уже не помещавшихся
на его маленьких площадях. Это очень любопытная схема: параллельные цепочки деревьев,
и процессуальная дорога, по которой двигались в карете и в седле. Это не дорога,
бульвар выключен из тривиального городского движения. Его смысл — быть местом
по которому движется предмет глазения, на который могут смотреть глазящие субъекты.
Раз возникнув, этого рода форма становится образцом, которому можно только уже
подражать. Возникает схема бульвара — места, вдоль которого совершаются качательные
движения, не имеющие конечной цели. Движение и есть предмет. Уже при Генрихе
IV, обменявшем протестантизм на Париж, закладывается начало Большой оси Парижа:
от парка перед дворцом Тюильри начала протягиваться в течение трёх веков бесконечная
перспектива бульвара. Через полтора века возникает следующее звено — Пале Рояль,
замкнутый прямоугольник земли, принадлежавшей брату короля. Здесь бульвар помещается
внутрь площади. Форма переворачивается по смыслу, лишается привычного содержимого,
где субъект, на которого смотрят, иной, чем субъект, который смотрит. Теперь те
же самые персонажи, которые смотрят на фланирующих, в любой момент меняются с
ними ролями и становятся теми на кого смотрят. Глазение на движущихся и движение
в роли смотримых в середине 18-го века получает уже совершенно отточенную форму.
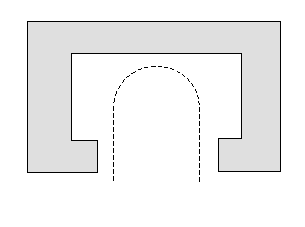
Это ещё не проект: коммерческое вдохновение превратило бульвар в аналог публичного
сада, и так организованное место начинает впитывать в себя город, как глазеющее
сообщество, и после пертурбаций революции, до-оформляется публика, которая смотрит
сама на себя. Это место, охраняемое собственной полицией. “Подлый” народ сюда
не попадает. Принцип Пале-Рояля переносится на городские бульвары как естественное
место пребывания “чистой публики”. Сама форма бульвара с этого момента закрепляется
как неогороженное, но выделенное сословно-классовым образом пространство публики,
которая отличает себя от просто горожан, что и признается этими просто горожанами. Естественно,
что именно такое пространство, отсеченное невидимой границей и видимым отличием
оформленности от обычной улицы, обрастает лавками и ресторациями для “публики”.
Модель эта почти незамедлительно приобретает ранг универсального цивилизационного
образца, и бульвар становится символом “столичного” в городе. Образец такого рода
безусловен, его можно к себе ввозить и пытаться воспроизвести, что и возникает
по всему миру. Невская перспектива в Петербурге возникает как именно бульвар,
ведь главное в бульваре — выделенность, обособленность от коммуникационно-транспортной
функции дороги. Вы же помните Невский проспект у Гоголя или в записках Пушкина,
где “все”, все общество, вся публика оказывается в этом пространстве. Бульвар
в этом отношении сакрален, и московские бульвары старого бульварного кольца давно
восстановили эту сакральную функцию — по ним же нет движения, кроме специального.
Только тележка для мусора может проехать. Это сакрализованное. пешеходное пространство
в этом городе. Воспроизведение образца в странах Европы понятно, но ведь
его воспроизводят и в Америке! При обустройстве столиц колоний, где, как и во
всяком другом колониальном городе с античных времен, разбивали элементарную сетку
кварталов, без бульвара дело не обходится. Короткий отрезок улицы, ведущий к дому
генерал-губернатора, непременно имитирует бульвар высаживанием двух линий деревьев.
Американская демократия, ничего общего не имевшая со феодальной историей, тем
не менее, воспроизводит образец при обустройстве улиц перед капитолиями штатов. Пространственная
форма предполагает воспроизведение ритуалов, сопряженных с ней исторически. Именно
бульвар — и в Америке, и в Австралии — становится местом, где публика сама себя
демонстрирует и сама себя разглядывает, а всё это вместе оказывается зрелищем
для публики попроще, которая уже давно воспринимает бульвар (непременно открытый
в отличие от запираемых парков) как важный элемент своего приобщения к городской
жизни. Модель работает как часы. Колониальные города Южной и Центральной Америки
начинают воспроизводить схему бульваров, но образ жизни там совершенно другой.
Эти города строятся по классической колониальной схеме равномерной сетки, что
было закреплено как норма ещё в Законах для Индий, принятых ещё Филиппом Вторым.
Центральная площадь отводилась рынку, так что в городе не обнаруживается места
для осуществления “бульварной” функции. И тогда вне города возникает
схема, являющаяся латинским вариантом бульвара, — эспланада. Это озелененное место
является средоточием городской жизни — за городской чертой, но ведь в колониальных
городах Америки пешком перемещалась только чернь. Эспланада — бульвар исключительно
для всадников и пассажиров карет. Но как следует разглядеть друг друга на ходу
невозможно, и тогда проектируются своего рода “карманы” — подковообразные площади,
с которых спешившиеся всадники и дамы, вышедшие из экипажей, рассматривают гарцующих
всадников и лица в окнах экипажей, — рассматривают самих себя. Каждый божий
вечер, когда спадает жара, город как культурная общность реализует себя здесь
вне города. Здесь происходит самоидентификация публики. Если у Вас нет подходящего
экипажа и подходящего коня и соответствующей экипировки, то максимум, что Вы можете
себе позволить, это оказаться в заднем ряду этой подковы. Это нигде не прописано,
нигде не предписано, это происходит. Опять таки модель “бульвар”
переносится в Америку непроектным образом (воспроизведение поведенческого образца),
но она немедленно порождает дальше своё пространственно-проектное оформление.
Рано или поздно эспланада обрастает колоннадами, фонтанами, пальмами, которые
создают оазисы для смотрящих. Бесконечно важная функция, которая в Латинской Америке
существует до сих пор, только вместо коней теперь автомобили. И эта ситуация происходит
и сегодня, и работает в схеме как часовой механизм — естественно более демократическим
образом. Заряда, содержавшегося в образце, хватило на 300 лет. Дальше в
Европе происходит следующая, забавная метаморфоза. Европейские города начинают
сносить свои укрепления, которые становятся функционально бессмысленными. Когда
стены были каменными, перенос стены не отражался на судьбе города. Когда в 17-ом
столетии возникают земляные укрепления с их миллионами и миллионами кубометров
грунта трудолюбиво уложенными в тяжелые валы, в которых вязли артиллерийские снаряды,
города отказывались от дорогостоящего сноса. Везде эти валы лишь слегка уплощают,
и на их месте формируют бульвары. В Вене (Ринг), в Париже, в Москве. Такие бульвары
сохраняют функцию променада, но они уже так велики по протяженности, что утрачивают
качества места для прежнего маятникового движения. Когда диаметр кольца бульваров
измеряется тремя и более километрами, оно фактически распадается на отрезки, закрепляемые
основными культурно-досуговыми учреждениями. Музеи, филармонии, оперные
театры оказываются в этой среде, поскольку их публика есть та самая публика, которая
разглядывала самое себя в пространстве бульвара. Кстати, именно в это время
закрепляется и название, восходящее к германскому “фольварк”, что чётко указывает
на военно-оборонительную генеалогию вторичных бульваров. Это очень существенная
деталь переосмысления, которая сразу навязывала себя как форма натурального использования
добра, которое есть. Образец есть. Бульвар необходим как форма социальной идентификации.
Как пространственная форма, без которой город, будучи поселением, не является
городом. Потому-то, когда государыня Екатерина Вторая начинает реконструкцию российских
городов, первейшая задача, наряду с обустройством центральной площади, у которой
встают присутственные места, — непременное устройство бульваров. Бульвар
есть признак городского образа жизни, и потому есть Бульвар Молодых Дарований
в плюгавом городишке из эпопеи Ильфа и Петрова. Есть бульвар — есть город, нет
бульвара — нет города. Это просматривается настолько мощно, что прошения об устройстве
бульваров направлялись на имя Государя и из заштатных городов. Когда к середине
19-го века крупнейшие города разрастаются рывком, город расползается физически
так, что его обитатели уже не могут собираться в одном месте. Слишком велик. Слишком
велик становится в нем и слой публики. Он умножается вообще и умножается социально,
втягивая в себя огромное служивое сословие, подтягивая его вверх. Знаменитая реконструкция
Парижа, осуществленная в 60-70 годы префектом Османом, с этой точки зрения особенно
любопытна. Префект — государственный чиновник, управляющий городом. Не мэр,
а префект осуществляет знаменитую реконструкцию, когда возникает схема Больших
бульваров (в любой книжке можно посмотреть). Это уже не только первичное кольцо,
но и вторичное кольцо, и радиусы, и хордовые связи. Бульвар утрачивает родовую
связь со своим исходным состоянием и преобразуется в некоторую стандартную пространственно-средовую
конструкцию. Грубо говоря, это теперь — улица, обсаженная зеленью, и более ничего.
Втянув обратно в себя транспорт, бульвар почти умертвил себя как социальный институт
идентификации публики. Омертвление бульваров в крупных городах, такая же часть
истории этой формы, которая меняет себя постоянно, но присутствие через литературу,
- через огромный корпус литературы, через живопись как главная среда действия.
Далее в дело вступают фотоаппарат, киноаппарат, и бульвар, расставшись с прежней
ритуальностью, включается в новую ритуальность — лирики. На бульваре назначают
свидания, на бульваре ощущается идиллическая выключенность человека из города,
хотя город обступает его со всех сторон. Эта лирическая рамка оказывается главнейшей
компонентой существования бульвара, сохраняющего качества сугубо светской традиции. В
отличие от улицы и площади, бульвар напрочь свободен от нагруженности религиозными
значениями. Он — носитель сугубо светской, мирской культуры. Именно поэтому
на очень долгий период бульвар становится главным типом коммерческого пространства.
Знаете ли вы, например, что все московские гостиницы были на бульварах? По бульварному
кольцу. Из зала: Рядом с бульварами? Глазычев
В.Л.: Нет, не рядом. Каждый из отрезков бульваров упирается в гостиницу.
Следы этого в двух местах сохранились — когда вы спускаетесь по Страстному бульвару
к Петровским воротам. Там ещё есть бывшая гостиница. И у Покровских ворот тоже.
Гостиницы были и по обеим сторонам бульваров. Публика, имевшая средства останавливаться
в гостинице, оказывалась там, где место для публики было наиболее натуральным,
а раз так, значит там и трактиры, и ресторации, и кратчайшая функциональная связь
с магазинами, (как только возникают магазины). В Париже все универмаги —
на бульварах. Речь идёт не о рынке, не о лавочках, не о том, что по-средневековому
лепилось под жилыми домами внутри. Это уже совершенно другой тип, иная структура
торговли, которая тяготела уже не к жилым кварталам, а к местам сосредоточения
публики. Особенно любопытно дело обстояло в Лондоне, который реконструировался
с 18-го века совершенно особым образом, создав систему, так называемых, жилых
площадей — square. Такая площадь по периметру сплошь обстроена жилыми домами,
а её середину занимает маленький парк. Часть таких парков и по сей день — частные,
только жители прилежащих домов имеют ключ от калитки. По-русски сквер — просто
маленький парк, что означало полный отрыв от исходной функции. Особенность жилой
площади в Лондоне в том, что там действовал и действует категорический запрет
на размещение магазинов и пабов. Шумное, суетливое сюда не допускается. Где же
оно тогда ему быть? — Там, где возникает бульвар. А другой схемы в этом городе
просто не было. А дальше — последним по времени
на сегодня иновариантом, инобытием бульвара стал американский торговый молл.
Это, по сути дела, гигантский пассаж, вобравший в себя и развитую зелень. Искусственная
она или натуральная, — не суть важно. Бывает и то и другое, смесь того и другого.
По сути дела, молл и стал формой сегодняшнего бульвара. Это как бы в пределе.
В промежутке есть множество форм обживания бульвара. Ещё в годы моей юности
московские бульвары очень чётко специализировались по “своей” публике.
На Чистопрудном бульваре играли в шахматы. Это был неформальный шахматный клуб,
существовавший все 50-60 годы. На Гоголевском бульваре в шахматы категорически
не играли, зато там играли в домино, вставив вместо стола фанерку в паз между
деревянными рейками спинки скамейки. На Тверском бульваре меняли марки. Там была
биржа незаконная, неофициальная биржа филателистов. Эта схема, возникнув ещё в
годы военного коммунизма, ухитрялась себя каким-то образом воспроизводить. Такого
рода специализация не мешала осуществлять и общелирическую функцию бульвара. А
что сегодня? — Все нагрузки, кроме частично лирических ушли, да и лирические оказались
в значительной степени задавлены сугубо детско-собачьей прогулочной функцией.
И это не только в Москве. На самом деле есть замечательно прослеженные истории
из жизни бульваров, но они, в любом случае остаются в мифологическом, в мифо-поэтическом
пространстве культуры каждого города. Схема Пале-Рояля — бульвар в интерьере города,
бульвар, выключенный из городского пространства, потому что здесь есть проходы
на улицы, но создана полная автономность интерьера. Сейчас здесь по форме — бульвар,
но функция у него совершенно другая, чисто лирическая. Функция бессюжетного смотрения
отсюда давно ушла, потому что смотреть друг на друга стадам туристов совершенно
не интересно. Сейчас делаются попытки воссоздать бульвар без бульвара:
Арбат, Камергерский, Столешников переулки, но это уже сюжетика пешеходных зон.
Эта мода в Европе началась с конца 60 годов, у нас до нее доросли к 80-м годам,
пытаясь при этом задать первичность сугубо коммерческому измерению. Но это отдельный
сюжет. Но есть в нашем мире другое пространство, другая принципиальная модель,
которая оттачивалась с очень давних времен и продолжает жить по сей день, практически
в неизменном виде, с ходом времени обрастая великим множеством дополнительных
нагрузок. Я имею в виду театр. [Театр]Начался
он, по сути дела, с религиозного или парарелигиозного ритуального зрелища — с
греческого театра, каковых немало уцелело по сей день. Театральное представление
было органическим элементом основного религиозного празднества, и на постановку
очередной премьеры выкладывались средства наиболее состоятельных граждан (своего
рода налог на прибыль). Некоторые из этих, врезанных в скалу амфитеатров, сохранились
вполне в работоспособном состоянии, и там — для туристов — ставятся оперы и трагедии. В
Риме происходит фантастическая метаморфоза, и театр переходит в интерьер. Сцена
и зал оказываются под одной крышей, то есть впервые формируется специальное пространство
для сюжетного восприятия. Зрелище обособилось от ритуала, в чем уже была заложена
возможность преобразования самого зрелища в светский ритуал. В средневековые времена
сосуществуют обе формы театра: первая — часть религиозной церемонии, и в этом
случае действие развёртывалось частью в интерьере храма и частью на паперти перед
собором; вторая — элемент карнавального действия, и тогда действие осуществлялось
на торговой площади, именуясь балаганом. По законам восприятия, осознанным
или нет, вторая форма влияла на первую, и к 12-му веку, скажем, относится замечательная
пьеса о грехопадении Адама. Естественно, во всех бедах рода человеческого оказывалась
виновна женщина, однако полемика, которую ведет Ева с дьяволом, стилистически,
целиком и полностью направлена на демонстрацию умственного превосходства женщины
над глуповатым мужчине. И это в рамках религиозного действа, которое в моральном
ключе, сюжетно утверждало прямо противоположное. Так или иначе, но средневековый
театр сохранял родство с античным, греческим в том, что театральное действие было
обращено, как и декор соборов, ко всем и каждому. Эпоха Ренессанса возрождает
по сути дела римский театр — театр не столько для горожан вообще, сколько для
“публики”. Сначала это домашние (дворцовые) театры, которые в нашей, российской
получили наибольшее развитие. К этому типу относится не только известный домащний
театр Шереметьевского дворца, но и столь поздний пример, как театр Юсуповского
дворца в Петербурге. Домашний театр — предельная форма зрелища для публики, только
для своих, только для приглашенных. В целом же европейский театр, как и
бульвар, становится важнейшим инструментом самоидентификации публики. Загляните
в мемуары 19-го века, в Евгения Онегина, и вы обнаружите забавную вещь. Как и
в античном театре, премьер не так уж много, но в театр едут каждый вечер. Главное
не то, что происходит на сцене, главное — то, как это происходит
на сцене. Тот дал петуха, тут она споткнулась, а тут — как замечательно вышло
антраша у примы-балерины. Это и есть театральная публика. Она не углублена, как
правило, сопереживанием героям пьесы (пьесу, как правило, знают наизусть), она
увлечена оценкой постановки как таковой. Но этого мало — театр обрастал своими
ритуалами. Есть партер, есть бельэтаж, есть ложи, есть ярусы — происходит растяжка
по вертикали и по особенностям условий. Сложная схема, где, с одной стороны, есть
простая градация по цене: чем выше, тем дешевле и демократичнее, и есть аристократическая
выделенность “главной” публики в абонируемых семействами ложах. Настоящая жизнь
публики развёртывается через лорнирование публики (любимый эпизод кинематографа),
через особую жизнь в ложах, где идут беседы, амуры, тайные встречи, все что угодно
(тоже любимый эпизод в кино), через променад по фойе и оценку туалетов в буфете,
через ритуал театрального разъезда. Подлинный “театр” уже в светском его измерении
развёртывается по всем этим ритуализованным линиям не в меньшей степени, чем в
зале. Кто подъехал, в чем подъехал, какие ливреи, какие одежды — всё это становится
главным содержанием публичной жизни в Пушкинскую. Строго говоря, театр исполняет
эти важнейшие функции по сей день. Схема, в которой вычлененное пространство играет
на укрепление самотождественности публики, но регуляторы изменились. В современном
состоянии культуры, особенно в новых театральных залах, вроде нью-йоркского Линкольн-центра,
где нет ни лож, ни ярусов, разведение “главной” публики и вообще публики задано
через качественный скачок в ценах на билеты в премьерные дни и в обычные дни.
Нет барьеров, нет пространственных границ, но схема работает. Тем более она работает
в европейских театрах, включая и российские. Два пространственных инструмента
самоидентификации городской публики оказали мощное воздействие на эволюцию городской
цивилизации. К тому же, легко заметить, что они ещё и в паре ходят. Большинство
театров построено у бульваров и на бульварах. Из зала: А
стадионы? Глазычев В.Л.: И стадионы, но ведь стадион — это
тот же театр, но только с наибольшей по охвату публикой, которую привлекает не
только и не столько результат, но прежде всего ритуальное соучастие в оценке того,
как развёртывается известный сюжет. Здесь есть античный диалог трибун, достигающий
крайней формы ритуального побоища. Ритуал значим предельно — распить бутылку на
стадионе всегда значило совсем иное, чем та же процедура в подъезде. Но
вернёмся к герою. Когда возникали демократические институты, они прежде всего
воспроизводили театр. Таков был революционный Конвент. А как проектировался зал
Капитолия США? — Как театр, разумеется. Недаром все съезды большевиков проходили
в Большом театре. Это не только соображения удобства — функция та же самая, только актёры из другой пьесы. Этого мало. Формула “театр” воспроизведена и в совершенно
других вещах. В судах, например. Что такое суд? Для непосредственных участников
судебного процесса дело обстоит сложнее, но публика в суде идентична театральной
(образуется не только свидетелями и не только сторонниками, существует судебная
публика вообще, наслаждающаяся бесплатным ритуальным зрелищем). Постепенно
театрализация начинала захватывать все прочее. Что такое главная университетская
аудитория? — Это театральный зал. Иными словами, везде где идёт расщепление ролей
на актёров и, по преимуществу, зрителей, даже если они меняются функционально
местами, мы имеем дело с театром. Статисты сцены могут рекрутироваться из публики
— как члены президиума собрания, или как участники фокусов иллюзиониста, схема
не меняется. Напротив, противопоставленность публики и сцены этими приёмами только
укрепляется. Укрепляется она и при выходе в естественные декорации города, как
это было при демонстрации световых игрушек Жарра у МГУ на Воробьевых горах, как
это происходит в новогоднюю полночь на Таймс Скуэр в Нью-Йорке, где роль актёра
отдана яблоку, падающему вниз. Пространственные молекулы “бульвар” и “театр”
— важнейшие модели социализации. Приезжий немедленно считывает эти модели, они
ему понятны, даже если он никогда не был в большом городе, потому что весь корпус
знаний, которые ему даны через опосредованные информационные механизмы, его приучил
к роли горожанина. Понятно как ведут себя в театре (хотя бы через кино). Понятно,
как ведут себя на бульваре. Опознавая смысловые формулы поведения, разучивая роль
публики, там получает возможность удостовериться в собственной реальности, самоидентифицироваться.
Сегодняшняя цивилизация в этом отношении оказалась в весьма трудной ситуации.
С одной стороны, невероятно разросшаяся масса формально приравненных в правах
людей не оставляет возможности самоидентификации всей публики, и та начинает распадаться
на квазицеховые группы: отдельно люди кино, отдельно политики, отдельно бизнесмены,
отдельно тинейджеры. Никуда не денешься — нас всех слишком много. В то же время
функция горизонтальных коммуникаций между группами сохранилась, или скажем точнее:
в каждой из этих групп присутствует чувство недостаточности при отсутствии такой
коммуникации. Есть такой культурный импринтинг — да и в конце концов банкирам
промеж себя просто скучно. Значит, необходима коммуникационная форма. Какую форму
выбирают? — Чаще всего модельную форму театра. Для этого существует ночной
клуб, кафе или ресторан, где недостаточно, чтобы там была певица такая-то — важно,
чтобы она прошлась между столиками, есть хотя бы иллюзия общения. Издавна существует
и иная “театральная” модель — экспедиция в чужую субкультуру. В лондонский паб
можно было пойти с той же целью, с какой Пушкин мог пойти на Новинский бульвар
— поглазеть на другую публику, на другой социальный слой. Эта функция всегда сохранялась
и сохраняется. Британская культура ещё к концу 18-го века выработала модель закрытого
членского клуба, корпорации ритуализованного общения внутри своей публики, но
вне дома. Система клубов восстановила ослабленные временем корпорации, но одновременно
всякий клуб непременно играет роль театра, где все “свои” образуют публику, а
роль актёра отдается гостю. На другом конце социальной шкалы существует дискотека
— “клуб для всех”, где слияние ролей актёра и зрителя составляет главную привлекательность. Телевидение
внесло в культуру существенные сбои, потому что создаёт иллюзию контактности “публик”,
отчего у многих как правило возникает лишь осознанный или неосознанный голод на
подлинный контакт. Однако существует порождаемая телевидением иллюзия связанности,
контактности, а через них -самоидентификация, как бы заменяющая собой и театр
и бульвар. Силе такой иллюзии способствует сугубо проектные структуры сериалов
(точно разыгранных по социально-культурным группам) игр и ток-шоу. Это великое
счастье, что огромное число людей убаюкано такой иллюзией — им её достаточно.
В американской культуре есть одна забавная деталь: хождение в кино (как
субститут театра) с послевоенного времени предполагает непременность оснащения
каждого зрителя попкорном и кока-колой перед входов зал. Теперь в кино ходят мало,
преимущественно смотрят видео дома, но при этом усаживаются перед экраном с ведерком
попкорна и банкой кока-колы, потому что американский кинотеатр без попкорна психологически
невозможен. Кстати, главный доход киносети — от попкорна и кока-колы, а не от
продажи билетов. Игры с веб-сетью — уже особое дело. Интернет, понятно,
усложняет дело. Из зала: Там трудно посмотреть кто как одет,
во сколько приехал… Глазычев В.Л.: Существует игра клуба с
аватарами: вот я прписал себе облик молодой девушки по имени Джильда, выбрал для неё индийское сари, и в этом качестве могу участвовать в дискуссии. Вся эта виртуалистика
любопытна, вне всякого сомнения, играет некую разгрузочную для психики роль, но
всё же это — консервы, она тоже отвлекает от отсутствия идентификации в пространстве.
А ведь где-то в культурном алгоритме, заложенном в течение пары тысячелетий, эта
тоска по ощутимому, по театрально-бульварному существует. Если бы этого атавизма
не было, не возникло бы гигантского феномена — коммерческого туризма. Отбросим
существенную его часть под названием “Отдых”, хотя, так как лежать на пляже или
сидеть в бассейне все время невозможно, поэтому отдых всё равно обрастает дополнительными
элементами. Вдумайтесь: телевидение всеохватно, интернет уже чрезвычайно
разросся, но объём туризма пока ещё продолжает нарастать.Что такое чужой город
для туриста? — Он весь становится “бульваром”. Турист ли движется, или садится
за столик, когда у него ноги более не идут, и смотрит как мимо него движется город.
Это оказывается одной из ключевых функций туризма, ведь и по музеям публика в
основном идёт как по бульвару (специалисты и подлинные любителе — в меньшинстве).
Или город считывается через модель “театр”, или через модель “бульвар”. Именно
в туристическом качестве эти накопленные и как бы забытые модели остаются живыми,
и даже искусственно воскрешаются для того, чтобы поднять уровень многообразия:
сюжетики или кулис. не только в Греции античный театр в Эпидавре вновь становится
театральной сценой, но то же самое осуществляется в совершенно другой культуре,
к этому отношения никакого не имеющей, — в Иордании, в Аммане. Здесь, в великолепном
античном амфитеатре, ставятся классические трагедии. Для кого? — Не для иорданцев
же, большинству которых Еврипид или Софокл непонятны и чужды. Древняя модель актуализуется
в “театре” глобального туризма. Инвестиции в реконструкцию, реставрацию бульвара
и театра оправдывают себя многократно, так как во множестве случаев восстановление
утраченных моделей обеспечивает максимум сугубо зрелищного разнообразия. В
той же Иордании, на границе с Сирией восстановили (как руины, не полностью) огромный
овальный форум античной Герасы и главные улицы-колоннады. Зачем? — Не только из
любви к истории. Чтобы воссоздать модель бульвара: туристы смотрят друг на друга,
фотографируют друг друга на фоне той колоннады, которую им специально восстановили,
чтобы им было где на себя смотреть привычным образом. Ради этого, ради ритуалов,
отпечатанных в культуре, происходят изумительные игровые вещи, вроде того, как
трудолюбиво на афинский Акрополь каждое утро завозится грузовик мраморных обломков.
Невозможно не захватить с собой кусочек “античности” — без этого нет реализации
контакта. Вне рассмотрения в этом ключе трудно понять природу гигантской
индустрии туризма, и, к примеру, московские власти, в их мечтаниях о толпах туристов
ставят себя в глупое положение: Москва как “театр” малоинтересна, и нужны специальные
программные усилия, чтобы повысить её информационную привлекательность. Через
этот ключ дешифруется в значительной степени огромный объём так называемой художественной
продукции, чаще все финансируемой через туристические и сопряженные структуры.
Наряду с моделью “театр” и “бульвар”, мы могли бы рассмотреть и модель
“парк”, но в случае парка куда больше роль философских сюжетов, а философию
с вами обсуждает Генесаретский. Старые модели живут и в том, что они периодически
переосмысляются как предметы проектного моделирования. Для того чтобы
возник торговый молл, нужно было переосмыслить бульвар. Я, кстати, знаком лично
с человеком, который изобрел молл, — американец Кунио Обата, который делал это
абсолютно сознательно, проектным образом из глубоко утилитарных соображений, Главной,
на первый взгляд совершенно очевидной идеей было создание кондиционированного
прогулочного пространства в немыслимой летом жаре американских городов. Специалисты
по торговле считали эту идею бессмысленной: якобы народа там не будет, напрасные
расходы и пр. Тем не менее, идея замечательно сработала — её было невозможно
оправдать через маркетинговые операции, потому что люди, не имевшие опыта
торговой прогулки по “бульвару” молла, никак не могли бы оценить опыт, которым
не располагали. Чисто проектным образом Обата соединил две исторически
ясных модели: пассаж, торговый пассаж, и бульвар. Это соединение видоизменило
всю систему розничной торговли на десятки лет. Но этот сюжет у нас с вами ещё будет играть в связи моделями и стереотипами обменных и прочих операций. Из
зала: Какие ещё социальные объекты можно посмотреть? Глазычев
В.Л.: Кроме бульвара и театра — несомненно парк, сущностно отличающийся
от сада. Парк — это уже урбанизированный сад, опрокинувший на природный контекст
и бульвар и театр. Несомненно, структура клуба. Главное в том, что к этим моделям
мы будем непрерывно возвращаться, обсуждая и прочие городские темы и темы проектирования. |