|
В справедливом гневе на современные убогие жилища, тиражированные
в бесконечность с помощью подъёмного крана, нынешний обыватель
склонен к ностальгическим вздохам по поводу некоего туманно-блистательного
прошлого. Как и во многих других случаях, оснований для ностальгии
обнаруживается мало, хотя есть вещи, несомненно заслуживающие
внимания.
Первыми
к сюжету российского/русского жилища обратились славянофилы, от нынешних отличавшиеся
европейской образованностью и явной способностью к рациональному мышлению. Оставим
в стороне мало сегодня интересные теоретические рассуждения времен Кукольникова
— практически идею не пытались осуществлять ни адмирал Шишков, ни даже обаятельный
Аксаков, вполне довольствовавшиеся обычным “ампиром”, тихо сохранившимся в Сивцевом
Вражке. Один Погодин был тверд, и его “изба” по сей день цела на улице близ Девичьего
поля, его именем и названной. Жить в лозунге, мило выстроенном в дереве, всё же оказалось не слишком удобно, и следующая постройка, до сих пор уцелевшая, хотя
и в искалеченном виде, в Староконюшенном переулке, оказалась забавным соединением
новейшего по тому времени прогресса с “русским” внешним видом. Для своего времени
(1871 год!) перед изумленными москвичами предстала расчетливая провокация в пышном
резном убранстве. Этот дом, построенный русским архитектором по фамилии Гун для
купца Пороховщикова, выглядел столь неожиданно, что, невзирая на скромные размеры
постройки, журнал “Зодчий” посвятил попытке придать ей русский облик несколько
страниц, особенно отметив всех поставщиков. “Парадная лестница,
кабинет, зал, гостиная, столовая и комнаты для прислуги, находящиеся внизу, в
подвальном этаже, отапливаются духовыми печами; детские и спальня — голландскими.
Во всех комнатах для проветривания воздуха при печах сделаны вытяжные каналы.
В доме проведена вода, устроены ванная комната и ватерклозеты: два вверху и один
внизу для прислуги”.
 Чтобы
постичь всю отчаянную тогда авангардность решения дома Пороховщикова,
достаточно сказать, что в начале нашего века “британская” идея
отдельных комнат для детей оставалась по большей части экзотической.
Во всяком случае в собственном и им самим построенном доходном
доме моего деда, архитектора Н. Н. Чернецова, на Басманной улице,
трое детей-подростков мыкались на ночь по кушеткам, там и сям
расставленным в гостиных, а для приготовления уроков загонялись
в общую “классную” комнату. Чтобы
постичь всю отчаянную тогда авангардность решения дома Пороховщикова,
достаточно сказать, что в начале нашего века “британская” идея
отдельных комнат для детей оставалась по большей части экзотической.
Во всяком случае в собственном и им самим построенном доходном
доме моего деда, архитектора Н. Н. Чернецова, на Басманной улице,
трое детей-подростков мыкались на ночь по кушеткам, там и сям
расставленным в гостиных, а для приготовления уроков загонялись
в общую “классную” комнату.
“Национальный”
декор дома Пороховщикова так поразил воображение редакции, что после имен архитектора
и подрядчика был указан и мастер, взявшийся за исполнение сложной резьбы по дереву:
Иван Алексеевич Колпаков, “у Яузской части, в Фурман-ном переулке, дом г-жи Коробовой”. Но
о чем же, собственно, речь, когда этот самый русский облик имеется в виду? Вопрос
не праздный, но ответ на него не прост. Если говорить о деревенском жилище
средней России, то обычная изба-пятистенка о трёх окошках по фасаду замыкает собой
ряд неспешной эволюции от землянки и курной избы. Иначе и не могло быть, поскольку
до самого Екатерининского времени сельское население оставалось в известном смысле
кочевым, столь часто перенося выселки и деревни на край новой гари, что устраиваться
серьёзнее не было хозяйственного смысла. Этнографы много, конечно, рассказывают
интересного о всевозможных значениях, обволакивающих каждый элемент дома, от его
порога до “курицы”, которой завершается конек кровли, однако самый тип дома как
минимального местообиталища от этого не меняется. Одна жилая комната и холодные
сени, так что теленка в зимние холода брали в избу, лавки и в лучшем случае, уже
под воздействием отходничества, ситцевая занавеска, пара ларей и божница в углу. Одно
великое изобретение было, впрочем, порождено скромными обитателями избы — это
русская печь, блистательный инструмент экономного обогрева, вдохновляющий сегодня
множество архитекторов Канады и США ввиду сочетания высокой степени экологичности
с аппетитностью сильного, массивного каменного ядра внутри деревянного дома. Печь
нередко заполняла скромную избу на треть её объёма, и по тогдашним доходам это
было сложное и дорогое сооружение, которое могли возвести только специалисты.
И отопление (нередко, впрочем, грозившее смертью от угара), и готовка, и даже
“ванная комната”, когда несподручно было топить баню, — все в одной печи. Не будет
большого греха сказать, что средний деревенский дом есть русская печь, обстроенная
полатями и минимумом свободного пространства в оболочке из бревен, при холодных
и тёмных сенях. Если вспомнить северные избы, модными формами которых любуются
туристы в Кижах, куда их свезли из отдаленных сел, то эти зажиточные дворы точь-в-точь,
за исключением декора, воспроизводят классическую структуру скандинавского дома-двора,
так что говорить о чём-то специфическом совсем не приходится. Двор этот и во времена
варягов, и позже именовался на своей родине “гард”, и когда в летописях мы читаем,
что Русь именовали “Гардарики”, то несмотря на протесты ярых романтиков, вроде
покойного Владимира Чивилихина, придётся признать, что речь шла о стране усадеб
в северном европейском типе, тогда как города в современном бытовом смысле тут
ни при чем совершенно. Конечно же, такой дом-двор был немыслим вне границ ареала
свободных крестьян, не признававших над собой иной власти, кроме царской.
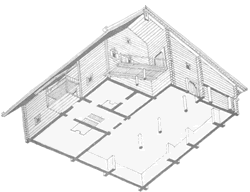 На
уличный фасад обращена была “изба”, внутренний угол которой занимала
печь, узкий коридор — “заулок” и “горница”, которой в городе полагалось
быть, естественно, на втором этаже. Вход и двойные сени устраивались
с бокового фасада. Справа от сеней устроены были обычно две “клети”:
“светелка” и “зимовка”, меж стен которых, под полом, находился
широкий проход в нижний уровень двора. Второй уровень большого
(и три и четыре сажени на шесть) крытого двора, называвшийся “озадком”,
имеет вход из сеней и “взвоз” — наклонную плоскость, по которой
заводили во двор скотину и закатывали телегу. На уличный фасад
был обращен “продух” — для вентиляции сеновала, с которого сено,
экономя силы, сбрасывали вниз. Мощный вынос карниза кровли, уложенной
по стропилам из молодых елей, спускавшихся комлем вниз, защищал
стены от косого дождя, а “поток” — выдолбленное бревно водосброса
— удерживался загнутыми вверх обрубками корней тех же елей, так
что целое, включая “полотенце”, прикрывавшее стык тесин на уличном
фасаде, и фигурку птицы или конскую голову, завершавшую “охлупень”
поверх тесин, имеет, несомненно, и величественность, и элегантность
стиля. На
уличный фасад обращена была “изба”, внутренний угол которой занимала
печь, узкий коридор — “заулок” и “горница”, которой в городе полагалось
быть, естественно, на втором этаже. Вход и двойные сени устраивались
с бокового фасада. Справа от сеней устроены были обычно две “клети”:
“светелка” и “зимовка”, меж стен которых, под полом, находился
широкий проход в нижний уровень двора. Второй уровень большого
(и три и четыре сажени на шесть) крытого двора, называвшийся “озадком”,
имеет вход из сеней и “взвоз” — наклонную плоскость, по которой
заводили во двор скотину и закатывали телегу. На уличный фасад
был обращен “продух” — для вентиляции сеновала, с которого сено,
экономя силы, сбрасывали вниз. Мощный вынос карниза кровли, уложенной
по стропилам из молодых елей, спускавшихся комлем вниз, защищал
стены от косого дождя, а “поток” — выдолбленное бревно водосброса
— удерживался загнутыми вверх обрубками корней тех же елей, так
что целое, включая “полотенце”, прикрывавшее стык тесин на уличном
фасаде, и фигурку птицы или конскую голову, завершавшую “охлупень”
поверх тесин, имеет, несомненно, и величественность, и элегантность
стиля.
Конечно же, именно такой дом-двор воспроизводился в полном или неполном
объёме за Вяткой и в Сибири вместе с уходом раскольников, также бывших прежде
всего свободными хлебопашцами. Крепостная Россия — вне этого ареала, и хотя
деревни вроде владений Плюшкина существовали скорее всё же в воображении писателя,
но вместе с тем являли собой тот естественный предел, к которому отжимала крестьян
жизнь в условиях минимизации расходов на так называемое воспроизводство человека. О
южнорусском жилище нечего и говорить — недостаток леса повлек за собой переем
мазанки у ближайших западных соседей, и комфорта новые места с собой не привнесли. Что
касается городского жилища, то весьма умеренной достоверности реконструкции новгородских
зажиточных усадеб (сохранилось лишь несколько нижних венцов) и, главное, редкие
уцелевшие от пожаров описи XV—XVI веков заставляют признать, что надёжной опоры
для суждения у нас нет. Ясно одно: городской двор со всеми своими хозяйственными
постройками и домиками многочисленных “дворников” был в первую очередь пространством
выживания. Как и сегодня в полурыночной Москве, само по себе пространство, защищенное
высоким забором, являло собой основную ценность, тем более что и горело всё это
без конца, тогда как основной доход извлекался владельцами из земли, будь то продукция
огорода или фруктового сада или арендная плата “дворников”. Качество жилища
не было здесь столь уж существенно и в абсолютном большинстве случаев выражалось
в той же пятистенке о трёх окошках, маленьких, зато уже в прошлом веке непременно
украшенных горшком герани, или лимона, или глицинии, что по сей день цветут в
окнах от Брянска до Тобольска.
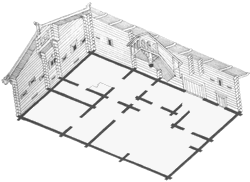 В
том, что мы не можем заметить следов самой идеи создания и поддержания
Дома как чего-то незыблемого, чему бы полагалось существовать
веками, как то было принято в каменно-кирпичных странах, видят
обычно — и вполне справедливо — влияние характера строительного
материала и, главное, общего чувства временности, незащищенности
и даже как бы необязательности бытия российского обывателя. Похоже,
неизбывная традиция отделения сыновей в равной степени в городе
и селе сыграла в этом не меньшую роль — во всяком случае на нашей
территории нет ни одного деревянного дома или деревянной кровли
XIV, XV или даже XVII века, каких не так уж мало сохранилось в
Европе. В
том, что мы не можем заметить следов самой идеи создания и поддержания
Дома как чего-то незыблемого, чему бы полагалось существовать
веками, как то было принято в каменно-кирпичных странах, видят
обычно — и вполне справедливо — влияние характера строительного
материала и, главное, общего чувства временности, незащищенности
и даже как бы необязательности бытия российского обывателя. Похоже,
неизбывная традиция отделения сыновей в равной степени в городе
и селе сыграла в этом не меньшую роль — во всяком случае на нашей
территории нет ни одного деревянного дома или деревянной кровли
XIV, XV или даже XVII века, каких не так уж мало сохранилось в
Европе.
Есть немалый соблазн счесть традиционным русско-российским домом
тот голландско-немецкий тип жилища, что ввезен был Петром, обработан в мастерской
“архитектур-полковника” Джакомо Трезини с некоторой адаптацией к условиям петербургской
спешки и к безденежью обывателей и с немалым упорством внедрялся на едва осушенных
болотах. Однако, несмотря на то, что этот вариант, особенно в его двухэтажной
ипостаси, когда упрощенные детали “классического” убранства, будь то каменные
квадры кладки, пилястры или карнизы, аккуратно и не без некоторого изящества исполнялись
в дереве, успешно прожил без малого два века (Царское Село, Петрозаводск), сделать
такое допущение сложно. И не только потому, что пассионарные патриоты могут обидеться,
но и в связи с тем, что этот тип так и не преодолел границу Московии, остановившись
в своём продвижении в Твери, так что он остается неизбывно локальным. Ещё
больший соблазн счесть таким домом московский особнячок, имевший с прототипом
своим — подлинной барской ампирной усадьбой — лишь то сходство, что имел или приставной
портик, или хотя бы фронтон в вариантах победнее, да ещё несколько львиных физиономий
и гипсовых трофеев или иных антиков. Такое допущение во многом оправдано тем,
что подлинное целое создавалось домом вместе с его двором и дворовыми постройками,
и непременное устройство входа со двора, так что на улицу выводила одна калитка,
создало тип мини-усадьбы, подобие которому в Европе не обнаруживается. Подлинное
целое создавалось непременностью хотя бы пары дерев, которым предоставлялась возможность
произрастать по собственному усмотрению, равно как и кустов сирени, в особенности
полюбившейся россиянам. Удивительно, насколько при этом соображения элементарного
комфорта не принимались никогда в расчет: основные комнаты образовывали анфиладу,
нередко охватывавшую весь первый этаж по “квадратуре круга”, так что вполне своей
комнаты не было ни у кого. В мезонине местилась прислуга, и только в мещанских
домах той же структуры, т. е. уже во второй половине прошлого века, где прислуги
было меньше, мезонин частью предоставлялся взрослым детям. С удобствами дело обстояло
не лучше, чем, скажем, в деревенской усадьбе каких-нибудь типических Лариных —
туалет был всегда при сенях, что во многом объясняет непонятное обычно для иноземцев
пристрастие к крепким духам и сильно пахнущим травам. Точных данных в нашей
истории, по большей части написанной высокими идеалистами, которые если о мелочах
быта и писали, то лишь в жанре Костомарова — о царях, царицах и царевнах немного,
о боярстве немного, зато огромная мемуаристика от Вигеля до Фета и от Аксакова
до Кропоткина изобилует материалом. К бывшему “арзамасцу” Ф. Ф. Вигелю,
к которому даже многочисленные недоброжелатели не могли придраться в отношении
точности, надлежит прислушаться с вниманием: “На самом темени
высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский
дом и присутственные места, идёт улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки,
ни одного купеческого лома в ней не находилось. Но весьма высокие деревянные строения,
обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища
аристократии украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в- деревне,
где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного
сада, где вход в него находился также между конюшнями, сараями и коровником и
затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады
сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там ещё не знали, в чистом воздухе
не имели потребности, восхищаться природой не умели... Описав
расположение одного из сих домов, городских или деревенских, я могу дать понятие
о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана
была в пристройке из досок, коей целая половина делилась ещё надвое, для двух
отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее иду мимо и вступаю в
переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет
ее; вес ощипаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие сидя или стоя говорят
вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или
камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починяется; в другом
подшиваются подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем... За сим следует
анфилада, состоящая из трёх комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка,
гостиной в три и диванной два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них
чище. Спальня, уборная и девичья смотрели во двор, а детские помещались в антресоли.
Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою
укромность, казался ещё слишком просторным для учёных занятий хозяина и хранилища
его книг... Внутреннее убранство было тоже везде почти
одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры;
гостиная украшалась хрустальною люстрою и в простенках двумя зеркалами с подстольниками
из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого
же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены
были кресла; в диванной угольной, разумеется, диван. В сохранении мебелей видна
была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая или из полинялого сафьяна
оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на
украшение комнат тогда много не тратилось”. Речь о Пензе, но в целом
— если оставить в стороне подлинные дворцы — описание Вигеля справедливо для любого
города России предреформенного времени. Можно понять режиссеров многочисленных
экранизаций последнего времени — в их кинолентах дома Обломовых, Огурцовых, Базаровых
и даже героев Чехова выглядят куда богаче, просторнее и эффектнее, чем это было
нормой бытия. У искусства своя версия правды и своя логика. Дело в том,
однако, что идея своего дома как особенного не могла в России родиться до того
момента, когда представитель сословия начал осознавать в себе личность, а это
происходит довольно поздно, уже только в 80-е годы прошлого века. Когда художник
Поленов строит собственный дом по собственному проекту, на земле, купленной на
гонорары за картины, он создаёт действительно индивидуальное жилище, сращенное
с мастерской, коллекцией живописи и прикладного искусства, клубом друзей. При
этом автор ориентирован не на заимствование или возрождение “стиля”, но на особенность
пейзажа и... “вечный” образец, созданный Рубенсом для себя за 250 лет до того,
а Палладио — ещё столетием раньше. Он строит дом относительно самого себя в пространстве
мировой культуры. Мамонтов в Абрамцеве или княгиня Тенишева в Талашкине такой
опоры в себе не имели и тяготели к тому, чтобы создавать в “русском стиле”, который
для них сочиняли одарённые художники. Эксцентричные Морозов или Рябушинский
обращались к другим художникам, чтобы выразить свою включённость в стиль модерн
или романтическую неоготику. Но и заказчики поскромнее находят, где искать образ
своего дома, и это происходит не в городе, а “на даче”, так что вновь в России
возникает свой почерк устроения жилища, ибо феномен российской дачи, без которой,
пожалуй, не было бы ни Чехова, ни Станиславского, ни Репина таких, какими мы их
знаем, прямых аналогов на Западе не имеет... Пореформенное время отличалось
в первую очередь тем, что именно скромный тип дворянского жилища оказался демократическим
образом размножен уже в качестве сначала купеческого, а затем мещанского, и, скажем,
в Тихвине всё ещё сохранились целые улицы таких домов, которые впоследствии, увы,
были превращены в коммуналки. В известном смысле это всё же вполне местный,
российский тип дома, где русская печь оказалась замещена сочетанием “голландки”
и чугунной плиты на кухне не только по недостатку места, но также и ввиду дороговизны
дров. Тип дома эволюционировал: все чаще первый этаж возводился в кирпиче, но
при возведении второго хранили верность дереву, в пользу чего сегодня выскажется
любой эколог. Кирпичную стену ставили обычно на белокаменный цоколь поверх бутового
фундамента и, во многом воспроизводя древний тип в дереве, непременно оставляли
в цоколе продухи для вентиляции подвалов. Увы, в последние десятилетия, то ли
опасаясь бродячих кошек, то ли ещё по какой причине, все эти продухи заделали
с упорством, достойным лучшего применения, и подвалы повсеместно начали гнить.
Огромную роль играл высокий проходной чердак под железной кровлей, которую тогда,
не ведая о рационализаторских предложениях, укладывали по сплошному настилу, так
что кровля жила долго. На чердаке был склад всего и вся, и там же вешалось белье
на просушку, так что тогдашний обыватель был бы весьма изумлен при виде многоярусной
прачечной на фасаде панельного дома, составленной из балконов и лоджий. Вместе
с сараями и двором, сжавшимися в размерах, но зато отгороженными от соседа глухой
оградой, такой дом становился “атомом” городской среды. Ещё в конце двадцатых
годов у нас был реальный шанс продолжить начатую столетие назад эволюцию, и посёлок Сокол в Москве, в последний момент спасённый от сноса в 70-е годы (одно из немногих
бесспорно добрых дел Союза архитекторов), по сей день демонстрирует досужему посетителю
целую гамму односемеиных домов, предложенную на рынок строительным трестом. Вместе
с НЭПом этот шанс был уничтожен, и на долгие десятки лет национальным типом жилища
стал рабочий барак, образ которого ярчайше запечатлен романами “Время, вперед!”
В. Катаева и “Люди из захолустья” А. Малышкина. Мой школьный приятель, ныне возглавляющий
один из самых известных в стране журналов, жил в такой ёмкости для воспроизводства
рабочей силы: сени, от них направо отхожее место с бетонированными “ступенями”
по сторонам от “очка”, налево помещение с рядом эмалированных умывальников, прямо
— длинный коридор, также с цементным полом, по обе стороны — жилые “пеналы” в
виде комнатки на семью. Дальнейшее известно: многоэтажные ёмкости для семей,
которые — следует прямо признать — по обнажённой своей нищете аналогов в цивилизованном
мире не имеют и уже потому должны быть признаны если не российским, то советским
стилем, хотя в 60-е годы этому типу жилища отдали дань повсюду. Впрочем,
у этого типа тоже долгая отечественная история, ведь всякий доходный дом имел
сложную внутреннюю структуру, когда комфорт и вместе с ним размер квартирной платы
уменьшались и снизу вверх, и от парадного фасада вглубь участка. Знатные и богатые
или только богатые квартиросъемщики были нужны владельцу, чтобы привлечь жильцов
среднего достатка, однако наибольший доход давали не они, а беднота, ютившаяся
“на задах” эффектного с уличного фасада комплекса. Если поэт Федор Тютчев много
лет жил хотя и на верхнем этаже одного из домов Лазаревых, но с лицевой стороны
(Невский проспект, 42), то раньше неизвестный мелкий чиновник и начинающий литератор
Николай Гоголь ютился в знаменитом доме Зверкова (капал Грибоедова, 27). Коммерции
советник, купец и ростовщик, И. Д. Зверков построил этот громадный, первый в России
пятиэтажный дом в 1827 году, и ещё в ходе стройки о нем писали и “Санкт-Петербургские
ведомости”, и “Отечественные Записки”. Строго говоря, Гоголь здесь не был “прописан”,
но на здешней квартире своего друга А. С. Данилевского он проводил куда больше
времени, чем в собственной меблированной комнатке по соседству, о которой лишь
раз в письме оборонил словцо: мой чердак. Дом Зверкова отлично знаком герою
“Записок сумасшедшего” Поприщину: “Эка махина! Какого в нем
народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братии чиновников
— как собак, один на другом сидит”. У этого дома была одна особенность.
Расположенный неподалеку от Сенной площади и Апраксина двора, он была населён множеством купцов, и вот третий, самый высокий этаж, обращенный к набережной солидными
квартирами, в дворовой своей части был разделен промежуточным перекрытием. Там-то,
в клетушках высотой 1 м 65 см, так что выпрямиться нечего было и думать, обитали
приказчики, жизнь которых и “дома” оставалась под неусыпным наблюдением хозяев. По-настоящему
старые доходные дома, возведенные в первой половине прошлого столетия, имели огромные
квартиры, но большая часть комнат в них — крошечные. Дело объясняется просто.
Так, квартира Пушкина на Мойке имела, не считая кухни, 11 комнат. Но в этой, казалось
бы, большой квартире, помимо супругов, их четверых детей и двух своячниц, местились
две няни, кормилица, лакей, четыре горничные, три служителя, повар, прачка, полотер
и ещё четверо доверенных слуг, с которыми Пушкин не расставался никогда, — все,
разумеется, крепостные. То, что в 40-е годы XIX века было характерно лишь
для Петербурга и как петербургский признак вошло в плоть романов Достоевского,
ближе к концу столетия распространилось на Москву и центры крупнейших губернских
городов — лучше всего этот угрюмый нищий быт описан Лесковым (“Павлин”) и множеством
литераторов второй руки, чаще всего пользовавшихся для характеристики сцены прилагательным
“страшный”. Новые жильцы, населившие после 17-го года все эти полутрущобные джунгли
наряду с комнатами в шикарных, как тогда говорили, квартирах и быстро и эти квартиры
втянувшие в относительную трущобность, воспринимали жизнь с оптимизмом, свойственным
обывателям эпохи НЭПа. Трагикомическая эпопея “коммуналки”, поистине явившейся
национальным советским стилем жизни в течение почти полувека, столь ярко и плотно
явлена в классических книгах советских писателей, что и социология не нужна. Наряду
с “нормальными пеналами”, высота которых обычно вдвое превышала ширину и чуть
уступала (или не уступала) длине отсеков между фанерными переборками, наряду с
бывшими гардеробными и чуланами, также превращенными в комнаты, но без окон, возникали
и весьма причудливые помещения вроде половины танцазала, в которой просторно обитали
мой дядюшка, В. Н. Чернецов, его жена, две собаки и огромная этнографическая коллекция,
собранная в экспедициях. В “Другой жизни” Трифонова есть описание поярче: “Комната
на Шаболовке удивила: какая-то шестигранная, обрубок зала с потолком необычайной
высоты, лепные амурчики беспощадно разрезаны по филейным частям. Одна ножка и
крылышко осеняли шестигранную комнату, а другая ножка и ручонка, держащая лук,
висели над коридором. Голов у амуров не было. Они приходились на перегородку”. В
годы НЭПа, помимо затеи с созданием домов-коммун, были и другие. Особенно отличались
дома Обществ политкаторжан, чрезвычайно разбогатевших на производстве кондитерских
красителей и тому подобных- полезных вещей. На прибыль от кооперативной деятельности,
не облагавшейся налогом, Общества построили первоклассные дома с обслуживанием,
не уступавшие замыслом и архитектурным решением европейским аналогам, но, естественно,
выстроенные чуть хуже по качеству, если только это не знаменитый Дом на Набережной,
среди обитателей которого мало кому было позволено умереть собственной смертью. Как
и во многом другом, нам приходится возвращаться к прерванной традиции, обнаруживая,
что иной, нормальной не изобретено. Выкупаются комнаты в “коммуналках”,
и те вновь становятся жилищем более чем состоятельных людей. Начинают разбирать
хрущёвские пятиэтажки, и на их месте возводятся так называемые дома улучшенной
планировки, так как домостроительные комбинаты, заботливо оберегаемые от необходимости
перестройки лоббистами в муниципалитетах, не собираются расставаться с налаженным
ритмом. “Новые русские” на равных со “старо-новыми советскими” из номенклатуры
возводят вне города коттеджи или нечто на них похожее — кто во что горазд: кто
“под ампир”, кто “в русском стиле”, кто “готику”, а иные “в авангардном духе,
но так, чтобы снаружи не было видно” (многие из коллег-архитекторов не без азарта
заняты такого рода маскировкой под амбар). Все прочие по мере возможностей продолжают
нашу российскую традицию по одежке протягивать ножки и все перестраивают или переоформляют
собственные бетонные клетки-квартиры, чем занят и автор, когда есть хоть толика
времени. Все нормально, то есть наличествует одновременно все мыслимое многообразие
разнонаправленных движений, полярных культурных ориентации, и в этом, пожалуй,
сильнее всего проявляется подлинная крепость российской традиции Дома, который
возникает как бы сам по себе, не подчиняясь никаким жёстким правилам, которые
обязательны в наидемок-ратичнейших западных странах. Анархическое начало, вырвавшись
на свободу, освобожденное от госстроевских нормативов и сдерживаемое лишь неким
нравственным чувством большинства, вступило в свои естественные права, что, впрочем,
несколько сходно с тем чувством свободы носить фраки и французские круглые шляпы,
которое соотечественники испытывали в связи с кончиной императора Павла I. |