| Глазычев.
Вчера я пытался изложить большую эволюцию
проектирования на довольно конкретном и относительно узком материале.
Сегодня я хочу продублировать это в жанре «малой эволюции».
Поскольку так вышло,
что новопроектная эпоха в нашем отечестве почти полностью совпадает с моей собственной
биографией, то я постараюсь дать некоторое рефлексивное описание движения в теме
проектирования, в тех трёх позициях, которые описывал в схеме Петр Георгиевич.
Это:
-
мышление о проектировании,
-
мышление проектом,
-
и собственно проект;
-
к чему следует добавить четвёртое — проектную аналитику
(как текущую, так и ретроспективную).
Я
попробую очень коротко описать несколько любопытных ступенек. Ступенька
первая совпадает с чрезвычайно интересным моментом в истории отечественной культуры,
с эпохой первой оттепели. Тогда оптимизм был вектором мышления и охватывал широкие
круги людей. Строго говоря, даже в разговорах на кухнях не было тогда ясно выраженных
пессимистических ноток. Эпоха совнархозов, появление первых предметов. Не было
электробритв — стали, не было штанов — появились, не было плащей — пусть только
в два колера, пусть китайские, пусть с одной, клетчатой подкладкой, но появились. Сам
факт развёртывания предметного мира практически от нуля или близко к нулю создавал
чрезвычайно важное позитивное настроение. Попробуйте прикнопить к доске настроение
— не получится, но ведь это великая сила, которая движет историей, в чем
мы сейчас убеждаемся особенно. В это время естественным образом происходит
отторжение всего предыдущего, в том числе и всей той проектной культуры, которая
существовала и культивировалась предыдущие десятилетия. Я сам, будучи студентом,
участвовал в переживании чрезвычайно ценного момента: «Все, что вы знаете, уважаемые
господа, все, что вы умеете, никому не нужно. Следовательно, мы знаем,
что нужно». Это соединение глубочайшего невежества с глубочайшим оптимизмом и
энергией обладает колоссальной конструктивной силой. Невежество — я подчеркиваю
здесь очень жирной чертой, — причём невежество воинствующее. Тогда было
распространено представление, что проектируются и здания, и машины, и города —
все! Вчера я закончил заявлением, что города проектировать нельзя (только
форму города проектировать возможно), но тогда мы этого не знали и были
убеждены, что заново делается все — этакий второй Пролеткульт, самопровозглашенный:
мол, мы пролетарии умственного труда, которые создают новый быт. В вакууме
работать невозможно. Средства деятельности откуда-то надо брать. Если отторгнуты
все прежние по определению, поскольку они прежние, происходит интенсивное всасывание
из понятного источника — слегка приоткрывшейся тогда западной культуры. Происходит
очень важная языковая мелодрама. Ведь слово «проект» в западной проектной культуре
не употребляется и по сей день. Если в англо-американском тексте встречается project,
то это либо проект в смысле «замысел», либо новый микрорайон (кстати, последний
чаще всего называется словом development). «Проект» — это наше русское слово,
хотя, конечно, когда-то заимствованное из французского языка. Писалось оно на
старых советских чертежах как «проэкт». Существовали какие-то доктрины, о которых
происходило узнавание через — через … второй тип невежества. Языков
почти никто не знал. Соответственно, западный массив информации воспринимался
через журнальную картинку и, в лучшем случае, подпись. Я знал английский язык,
что делало меня чрезвычайно самонадеянным. У многих происходило угадывание,
догадывание, конструирование какого-то собственного смысла за картинкой и подписью.
В принципе, очень продуктивный процесс, потому что из нескольких составных кусочков
надо было создать какую-то непротиворечивую картину. Тогда что-то возникает заново,
с припоминанием чего-то, что было давно убрано в сундук — советский конструктивизм,
советский функционализм 20-х годов. Это тоже вытаскивалось из старых журналов,
страстно читалось как сиюминутный материал. По одной простой причине: новая, свежая
доктрина обладала прозрачностью — доктрина функциональности.
Олег Игоревич упоминал этот момент. Все эти слова (бред!) вроде
«форма следует за функцией» переживались как открытие. Что значит
«следует»? А ничего не значит! Салливен написал это когда-то.
Это конец длинной фразы: «Как след орла в
небе, как след рыбы в воде … так и форма следует за функцией.
Таков закон!» Восторг. Раз таков закон, это прекрасно.
Читались тексты мощных риториков, талантливых художников, вроде
Ле
Корбюзье, у которого каждая фраза была как гвоздь, вбиваемый
в стену. Искать в ней логический смысл было бы крайне неосторожно,
и в этом не было абсолютно никакой необходимости, потому что риторический
напор был гораздо важнее.
В этой-то ситуации я овладевал азами технологии проекта.
В каком смысле понимался проект? Фиксируем первый смысл. Проект понимался как
всего-навсего внутренне непротиворечивая модель несуществующего полагаемого объекта.
«Внутренне непротиворечивая» — что бы это ни означало, но это переживалось как
внутренняя цельность: это можно «укусить», попробовать, сравнить в соседской экспертной
среде. Вырабатывалась определённая система суждений, позволявших эту внутреннюю
непротиворечивость так понимаемого проекта определять на свободном рынке идей,
потому что казённого спроса на идеи не было никакого, контроля за ними в тот момент
почти не было. Соответственно, мы говорим о свободном рынке интерпретаций,
в котором смешались поколения, некоторые осколки предэпохи, той эпохи, которую
считали кончившейся.
Я прекрасно помню замечательную сцену. Тогдашний Клуб Союза архитекторов.
Я ещё студент. Вдруг выясняется, что Константин Мельников,
один из мощнейших авангардистов ХХ века жив, и он здесь. Старичка
выводят на сцену, он лепечет какой-то мистический вздор, никому
не понятный, но это не имеет никакого значения: он есть предметный
образец, вот как надо.
Я лично тогда фиксировал странную вещь: я все тексты прочел
в отличие от других, так как английский знал свободно и французский более-менее,
доктрину функционализма я разобрал по косточкам, я все делаю правильно, а получается
гадость. И чем правильнее делаю, тем гадостнее результат: скучный, противный,
эстетически омерзительный. В чем проблема? Это первая, очень важная ступенечка
усомневания. Усомневания в том, что я правильно понимаю проект, что я правильно
понимаю деятельность и что я правильно понимаю правильность. Для того чтобы
вырваться из этого круга, можно было пойти путем, которым пошел я, — путем вычислительным. Вычислительный
путь (если предельно сжать его) заключался в следующем. Понятно: только что
прошло историческое совещание ЦК КПСС и Совета Министров, которое осудило «излишества»,
введя примитивнейшую интерпретацию функционализма в ранг партийно-государственной
идеологемы. Что из этого следует, было совершенно очевидно. Я делал из этого простое
умозаключение: в течение десяти лет спроса на мое представление о проекте не будет.
Потому что проект уже есть — черемушкинский дом на все времена как абсолютный
и единственный образец, предписывающий все формы поведения и существования человека
в этом мире, более того, предписывающий внешнюю организацию мира, набирающегося
из таких же одинаковых кирпичей. Юридический запрет на индивидуальное проектирование
(как всегда в России, с исключениями, но запрет такой был) означал для пытливого
ума тогда, что делать в этом царстве нечего. Соответственно, происходит разворот
— внутренняя установка на делание непротиворечивых моделей несуществующих объектов
как на дело приятное и симпатичное есть. Начинается сканирование окружающего
мира и выяснение сектора свободы. Я был ещё на пятом курсе, когда принял
историческое для себя решение: в архитектуре я работать не буду, а пойду-ка я
работать туда, где что-то происходит. А что-то происходило тогда в сфере так называемого
дизайна. Институт технической эстетики, тогда входивший в пору начального расцвета,
обещал царство свободы, поскольку ничто не было предписано. Нормативов не было,
правил не было, было только постановление о том, что надо учредить.
Кстати, трогательный момент. Уже только зная что-то в истории,
можно заключить, что постановление о создании Института технической
эстетики вместе с его отделениями по Советскому Союзу (специальными
художественно-конструкторскими бюро) делалось под тем же самым
логическим основанием, по которому в своё время Кольбер принимал
решение о создании Французской академии художеств — «дабы повысить
конкурентоспособность отечественной продукции».
Иного способа, чем добавить к этой знаменитой
продукции нечто (неизвестно что), не усматривалось. Это было замечательное
по-своему время, поскольку все, что было в институте, — это движение шкафов. Только ещё шкафы и расставляли. Попадаю в чрезвычайно любопытную ситуацию. Непаханое
и никак нерасчерченное поле, уже называющее себя проектированием. По понятной
причине: кто были главными носителями какого-то умения? Те архитекторы, которых
туда можно было втянуть. Других просто не было. А если и было несколько прикладников,
работавших с машинами, из Строгановского училища, то они тоже брали словарь у
архитектора как «старшего брата». Поэтому «проект — проектирование», все в порядке.
К этому добавляется команда, в которую входили Карл Моисеевич Кантор (он жив) — младомарксистский
философ, страстный, пассионарный; Георгий Петрович Щедровицкий,
Олег Игоревич Генисаретский и
ваш покорный слуга, который болтается между двумя этими
группами. Уже не архитектор, потому что отрекся (очень важная
вещь) — произвел открытое отречение от как бы профессионализма,
которого у меня на самом деле не было, но по диплому-то
был. А, не считая меня, эта группа не имела ни малейшего
представления о том, что такое проектирование.
Технология выглядела так. Карл Моисеевич Кантор, Георгий
Петрович Щедровицкий и ещё один мой друг и учитель, к сожалению,
умерший, Евгений Абрамович Розенблюм, блестящий художник-оформитель,
способный сходу проектировать и чайник, и памятник, и музейную
экспозицию — всё, что угодно, и я как своего рода «переводчик»,
толмач. Розенблюм обладал блестящей художественной интуицией,
но чрезвычайно неразвитой способностью к жёсткому логическому
мышлению, блестяще говоривший, но не умевший писать. Он
шесть часов рассказывал Кантору и Щедровицкому о том, что
такое дизайн. А я «переводил».
Смесь, которая
излагалась, сама по себе фантастична. Единственным культурным мостиком с Западом
тогда была Польша. Съездив в Польшу, Кантор и Розенблюм узнали о существовании
новых видов проектных технологий — новых для нас. Каких — неважно: например,
способы композиции, систематическая работа с цветом, не тыканье, а определённая
развертка по науке, которая с 20-х годов составлялась, собиралась, реализовывалась.
Ее можно было получить почти в готовом виде, в пакете.
Следовательно, как мы в институте, так и эти взрослые дяди
начинали конструировать мир из кирпичиков, получаемых совершенно
случайным образом, совершенно случайной редакцией, случайной
интерпретацией (я переводил им, как умел — что знал,
то и объяснял), опираясь уже на развитую мыследеятельностную концепцию, которая, конечно,
к проектированию не имела ни малейшего отношения, а вообще
вся вырастала из педагогики.
Возникает
чрезвычайно интересная ситуация обсуждений неведомо чего, но с понятным вектором.
Что делаем, непонятно, а куда делаем — понятно. Это очень важно. Куда делаем?
Изменяем страну, конечно. Дизайн для нас цель, что ли? Нет, конечно — средство.
Проекты как средство изменить природу социалистического производства
через верхушку, через изменение мышления тогдашнего менеджера, как бы он ни
назывался. Через введение в его сознание представления о том, что есть потребитель,
а не только производитель, выстраивание пары производитель — потребитель, и, естественно,
на сцене появляется некий таинственный проектировщик, тут счастливо названный
дизайнером, который оказывается в вершине «треугольника»: промышленность —
дизайнер — потребление. Классическая ситуация перехвата управленческой
функции. Здесь я прямо подхватываю то, о чем говорил вчера. Изначально
выстраивалось видение такого рода проектного цеха или, если угодно, масонской
ложи, как конструкции, способной перехватить управление в той зоне, которая тогда
была мыслима: не выше чем вообще система массового производства.
Все это было очень забавно. Формировался малый остров свободы,
рынок идей, в котором сталкивались совершенно свободно,
личностно организуемые представления. Мне было 24 года.
Я нахально публикую в журнале «Декоративное искусство» здоровенную
статью, которая называется «Функция — конструкция — форма». Кому-то
она не нравится, но возразить нечего: не отработан язык,
не прочитаны книги, которые позволили бы это сделать.
Замечательный искусствовед Игорь Голомшток, написавший потом, на Западе,
книжку о тоталитаризме, орал на нас: «Вы, носороги, идете не туда!» Он чувствовал,
что мы не правы, взывал к только что напечатанной в журнале пьесе Ионеску. Он
чувствовал, что эта целостная, как танк, движущаяся колонна идёт не туда, но языка
доказать не имел.
Из этого вырос так называемый «кирпич» — та самая известная книга о методологии
проектирования, в которую и я что-то написал.
Как это делалось? Это любопытно. Я участвую
в этой компании, хоть и молод. Но там возраст не считался, поскольку поле нехоженое,
поколения смешаны. Есть что сказать — говори. Совершенно западный тип говорения.
Но, впрочем, отнюдь не западный стиль кусания друг друга за лодыжки.
Произвожу операцию «Ы». Лефевр
публикует тогда технику нотной записи деятельности. Щедровицкий
даёт мне её прочитать. Читаю и думаю: «А напишу-ка я в нотной
записи, как действует проектирование». Пишу и публикую.
Ни одна сволочь не возражает, потому что неизвестна ещё
работа, необходимая для челночного движения между этими
двумя системами.
Это потрясающий момент, который не может быть воспроизведен,
потому что инициирование некоторого клуба новой деятельности счастливым
образом депрофессионально и настолько свободно, как уже ни оно само, ни второй
эшелон разработчиков свободными быть не могут никогда. Техника освоения
мира строится замечательным, совершенно экспансионистским образом. Некоторая идеология
проектного действа всё ещё в той схеме, в которой я пока говорил (проект как модель
несуществующего объекта) работает так: кто-то что-то слышал про какую-то фирму
«Оливетти», мол, что-то она интересное делает. Кантор спрашивает, а не напишу
ли я об этом. Через две недели интенсивных разысканий в библиотеках готова статья.
Вдруг выясняется, что дизайн на «Оливетти» включает элемент социального проектирования.
Никто не знает, что такое социальное проектирование. Статью печатают. Развёртывание
вектора жизнерадостного оптимизма могло привести только к тому, к чему и привело
— возникновению безумного концепта тотального проектирования. А почему
бы и нет? Сопротивления среды как бы нет. Хотя, конечно, есть, потому что
ничего не реализуется. Проекты множатся, но естественным образом не ассимилируются
тогдашним производством. Да они ему и ни к чему. А раз нет сопротивления (нет
теоретического сопротивления, нет идейного сопротивления), то вектор упирается
в бесконечность. Наверное, от чувства безысходности возникает концепция
тотального проектирования — теми же способами, какими проектируем вещь, спроектируем
все остальное, вплоть до всего общества. Энергия агрессии достигает своего предела.
Двигаться по этому вектору некуда. Здесь возникают сомнения — усомевания-2.
Первое: просто чтение, накопление материала, уже накопленного в мире, где
дизайн существовал давно (в оформленном виде с кризиса 1929-33 годов), вынуждает
понять, что вне социально-культурного контекста невозможно понять, почему где-то
в мире движутся проекты, вытесняя один другой. Каждый из них в отдельности «внутренне
непротиворечив». Почему же один концепт вытесняется другим, один проект вытесняет
другой, реализованный? Какова механика движения этих проектных моделей? Что ею
движет? Когда ничего не понятно, надо написать книгу. Это единственная
мне известная техника. Я написал книгу — первую книгу в своей жизни. Вообще-то
она называлась у автора «Социальная функция дизайна», но поскольку слово «социальное»
было запретным, то, в конце концов, в издательстве оставили «О
дизайне». Возражать трудно — действительно, о дизайне написано. Функциональная
картина ещё довлела над сознанием, однако в книге выстроилось вычленение некоторой
абстракции, которая в тогдашнем языке (другого языка ещё нельзя было употреблять)
была названа «добавочной потребительской ценностью». Те, кто что-то помнит из
марксизма, вспомнят, что была добавочная стоимость. Но употреблять такой термин
значило сразу попадать в жернова советской политэкономии. Поэтому введение термина
«ценность» означало чрезвычайно удобный выход из положения, а одновременно и некоторую
новацию, поскольку до того момента это слово просто не было в ходу как конструктивное.
Здесь происходит усомневание-3. Книжка написана. Понятно, что для
этого надо было что-то узнать, прочесть какие-то книги. Становится понятно: не
пройдя стадию экспериментального проектирования уже с этим знанием, свернутым
внутрь, я не могу двигаться дальше. Можно только множить материал. Конечно,
я исследовал, к примеру, как дизайнер Джордж Нельсон вытащил «Форд» из ситуации,
в которую его поверг Мак-Намара, до этого министр обороны США. Какое решение нашел
Нельсон? Из машины в машину? Ничего подобного — через масскультуру как
предмет своей деятельности. Он накладывает образ автомашины Джеймса Бонда из первых
серий как молдинги на колеса рядовой машины. Возникает «Форд-Мустанг», который
делает колоссальную карьеру и вытягивает всю корпорацию из воронки бедствий. Такого
рода эмпирики можно было накапливать сколько угодно, но продвижения-то дальше
не происходит. Тогда я ухожу из всей этой системы, и с тем же Розенблюмом мы создаем
экспериментальную студию, по сути дела, входя в педагогический процесс. Но в поле
свободы, потому что такого учебного заведения не было, и в рамках рыхлой советской
системы можно было найти ячейку, где под эгидой Союза художников, которому было
наплевать (а деньги у него были), разрабатывались основы того, что стало потом,
много позже, именоваться средовым подходом. Это проектирование
через культурный контекст. Не проектирование чашки, а проектирование образа
жизни. Не проектирования автомобиля, а проектирование стиля жизни. 10 лет
работы в студии — это около 800 проектов. Что же здесь понималось под проектом
по отношению к первому псевдоопределению? Убирается прочь ранее столь важное понятие
внутренней непротиворечивости. Возникает представление о непременной внутренней
конфликтности проектной модели. Тут уже расставание с наукой полное. Внутренняя
конфликтность как необходимый элемент. Модели чего? Модели ситуации,
центрированной на конкретный, опредмеченный объект. Неважно, что это было
— цех, город, сады Семирамиды, новый тип телефонных аппаратов. Это был
интересный процесс горизонтальной экспансии. В этом горизонте можно было
пройти почти бесконечно. Число предметов приближается к бесконечности, число ситуаций,
разумеется, конечное, но большое, что очень важно. Казалось бы, можно этот процесс
тянуть в будущее без изменений. Однако происходит следующее усомневание.
Нет способа эти проекты заставить работать иначе, чем средства самообучения
тех, кто втягивается в этот процесс. Никакого спроса на такого рода модели
в стране нет. Нет общественных инструментов, чтобы навязать их здешнему миру,
чтобы породить общественный спрос. Возникает ситуация вакуума дальнейшей
экспансии, с одной стороны, и методологической рефлексии — с другой, которая позволяет
понять одну чрезвычайно важную вещь: всё-таки пора с невежеством покончить. Начинается
преодоление убожества, которое в ту эпоху нес с собой знаменитый системный
подход — религия нового времени, которая давала иную конкурентную схему тотального
проекта с системным подходом: накроем системностью жизнь нашего замечательного
государства, и вот тут-то наступит благолепие. Глушков со знаменитым исчислением
Госплана был здесь уже финалом и результатом этого дела. Социальный враг был.
Попытки охмурить его в системе методологии, переназвав системный подход системно-структурным,
и ввести внутрь его так называемую генетическую логику оказывались не очень-то
успешными. По одной причине: глубокое историческое невежество всех, кто в этом
участвовал. И начинается внутренне обязательный процесс выстраивания
исторической модели, кусочек которой я рассказывал вам вчера. Конечно, у этого
процесса нет некоего финального результата. Процесс самоценен, а его продукт
— способ уяснить, чем деятельность, ныне нами именуемая проектированием, отличалась
от самое себя (и от самое ли себя?), что происходило и происходит с ней в
разных историко-культурных средах, какие значения и какие ценности оборачиваются,
перемалываются, преобразуются, включаются в себя машиной этой деятельности. Это
означало, по сути дела, написание истории заново. Всякая самоосмысляющая позиция
должна написать свою историю, другого способа не существует. Это целый
ряд лет работы, которые замечательно совпадают с ситуацией так называемого застоя,
когда вы всё равно не можете продвинуть никакую идею иначе, чем в мир идей, тогда
заполненный читателями. Одна из форм спасения была погружением в историческую
культуру и критикой той истории, которая была изложена в советских книгах. С
возвращением этого обогащенного материала в сферу, который исходно продолжал называться
проектированием и переживаться как проектирование, мы получаем ещё одну очень
любопытную стадию — постижение граничности проектов, граничности проектирования
как моделирования.
К этому было два толчка. Первый — погружение в историю.
Второй — постижение культурных сломов, происходивших
в это самое время в другом мире, в котором происходило столкновение
открытых идей. Здесь есть интересная мета. В 1960 году (мы-то
узнали об этом гораздо позже) остервенелая американская
тетка Джейн Джекобс, крепкая
журналистка, напечатала замечательную книгу, которая называлась
«Жизнь и смерть великого американского города». У
нас до сих пор неправильно переводят её название и пишут:
«Жизнь и смерть большого американского города». Слово «great»
переводится не самым счастливым образом.
Эта книга в известной
мере повторила нашу студенческую позицию начала 60-х годов: «Вашего мира не было,
ваш мир неправильный», — но уже в отношении всего корпуса западного, функционально
выстроенного, тотально устремленного проектирования, в отношении города, среды
и образа жизни. Лозунг профессионального проектировщика «Мы знаем
лучше» до той поры не подвергался сомнению никоим образом. Было только столкновение
персонализованно окрашенных тотальных моделей: «Я знаю лучше, как вам жить…
Нет, он знает лучше». Впервые этот лозунг опровергается. Это совпадает с
движением протестов, на волне битников, на началах хиппи — всё это единый процесс
контркультурного движения, который не был вовремя распознан. Но это был уже настоящий
сигнал. Возникает совершенно новая реальность, которая не приходила в голову
никому — представление о том, что процесс проектирования как процесс уже моделирования,
делания будущего состояния, а не объекта, возможен только в диалоговом режиме.
Колоссальный сдвиг парадигматического умонастроения. Сдвиг от «я знаю лучше,
лучше всех умею» до «конечно, кое-что я знаю, кое-что умею, но выработать реализуемую
модель новой ситуации я могу только вместе с теми, кто в этой ситуации будет существовать,
кто её будет создавать». Возникает новый тип культурного героя, до
сих пор пребывающего на периферии, но не по численности. Я подсчитал недавно:
в мире сейчас в технологии так называемого соучаствующего проектирования работает
уже около 200 тысяч профессионалов. Это серьёзно, это уже корпус. Пусть он слабо
оформлен, пусть финансово слабо подкреплен, поскольку это не мощные проектные
корпорации, встроенные в обычные корпорации, но новые миссионеры опираются на
мощный третий сектор, на гранты и тому подобные вещи, и все время расширяют сферу
своего влияния.
Потребовалось опять переписать историю, опять увидеть,
каким образом осуществлялась диалоговая система, часто укрытая,
часто непроявленная, часто спрятанная за словом «заказчик»
(вчера я об этом рассказывал; «Я построил», - говорил Ассурбанипал).
Это было открытие истории самоорганизуемого пространства
и самоорганизуемой среды, непроектной в том смысле, который
вырастал из первого определения.
Начинается «открытие» в истории таких замечательных
вещей, как, скажем, никем не спроектированный идеальный город Венеция, возникавший
в результате сложнейшего столкновения частных проектных концепций, крупных глобальных
политик (потому что была Венецианская империя, а не просто город). Была своя концепция
функционализма, блистательно разрешённая без особого доктринерства: на этом острове
кладбище, на этом арсенал, на этом промышленное производство, на этом хорошо живем,
а это hinterland, побережье, где выращивается хлеб. Открытие этого рода самонастраивающихся
систем и выявление в них векторов самонаправленных частных проектных и
квази-проектных действий. Происходит смыкание. Подозрение о непременной
внутренней конфликтности модели получает подкрепление через исторический анализ
или псевдоанализ, или выстраивание своей истории, поскольку обнаруживает смену
ситуаций как постоянную смену конфликтного поля между разнонаправленными проектами
— к другому состоянию поля, где первое столкновение снято и нарождается следующее.
Конечно, не написав эти вещи, дальше двигаться было невозможно. Здесь лично
у меня два раза происходил возврат в методологическое. Первый — когда надо было
понять, каким образом в сложно организованном мире (мы уже употребляем новые слова,
говорим «проекты», «оргпроекты», «программы», «планы», «реализация» как действие)
все может быть соотнесено.
Я тогда сделал книжку, которая формально называлась «Организация архитектурного проектирования». Архитектурного
— потому что надо было издать её в Стройиздате. В ней
были выявлены внутренние функции разных типов работы с квази-проектным
и проектным материалом — не важно, как они назывались:
генератор, разработчик, инспектор, методист, кошечка, собачка.
Разъединение типов деятельности, на самом деле укрытых под
общей маской.
Была такая
игра «в пятнадцать» — передвигаешь фишки с цифрами, чтобы выстроился ряд от одного
до пятнадцати. Я сделал игру «в семь». Мне хватило семи фишек. Каждую из них по
очереди ставя вверх в управляющую позицию, я смотрел, что неизбежно должно произойти
со всеми остальными. Этакая полная карта возможного. Забавным образом три четверти
ее уже реализовано сейчас. Тогда это была чистая игра ума. Второй возврат
был более любопытен. Я уже обозначал, что
движение, с одной стороны, в экспериментальном проектировании, когда пытались
включить контекст внутрь, толкало к построению средового представления и
средовой модели. Но её надо было описать. Возникла детская игрушка — взять
и сделать себе треугольнички. Один из них — так называемый
естественно-научный подход (самое широкое, что у нас может быть: «А я полагаю,
что это есть, вот я это исследую. Что «это» — неважно».). Есть социотехнический
подход, как бы он ни назывался. Здесь я уже манипулирую не предметами, не
знаниями, а людьми и их организацией. Есть (как хотите, называйте) ценностный,
аксиологический, социально-культурный подход. Здесь существуют ценности: это
хорошо, это плохо, это красиво, это некрасиво. Где-то ещё болтается методологический
подход, с позиции которого можно усмотреть соотнесённость первых трёх. Составить
четыре треугольника я могу единственным способом, как известно из стереометрии
— выстроить аккуратную пирамидку, тетраэдр. Конечно, методологическое на его донышке,
на него все проецируется — кто же будет себя помещать на бока? Объект висит на
ниточке и всюду проецируется. Удобная объяснилочка для некоторых вещей,
но не более того. Чего-то мне не хватало. Я склеил тетраэдр из стерженьков и поставил
на полку так, чтобы всякий раз, садясь за стол, мог видеть её перед глазами и
раздражаться. Не принимайте это очень всерьёз: я ведь говорю о способе
осмысления. Где-то рядом, в особом пространстве существовало несколько
понятий. Программирование, проектирование, планирование. Дальше мы особенно не
заходили. Под программированием имелась в виду порождающая реальность
для проектов. Проекты — дети программы, а планы — бастарды у проектов,
поскольку слишком много компромиссов. Эта пирамидка стояла сама по себе,
а эти строчки жили своей жизнью. Тогда в какой-то момент щелкнуло: а что, если
протащить этот тетраэдр сквозь самое себя? Есть ведь такая геометрическая процедура.
Тогда мы получаем гипертетраэдр, в котором, помимо внешних ребер, возникнут
ребра и внутри. Наш объект они протыкают, и, соответственно, таких ребер будет
четыре. Куда деваться-то по геометрии? На один внутренний стержень я наклеил ярлычок
«программирование», на другой — «проектирование», на третий — «планирование».
Возникает заминка — надо ведь назвать ещё один стержень. Эврика: это «действие»,
потому что, сколько бы мы ни говорили о программе, проекте и плане, оживают они
в особой действительности действия, которая (слава Богу, Гуссерль и компания этим
занимались) относится к числу наименее проработанных и наименее описанных форм
реализации деятельности. Действие — это что? Это ведь всегда взаимодействие.
Ну и пошло-поехало. [Также о средовом подходе см. «Лекции
по муниципальной политике» ]
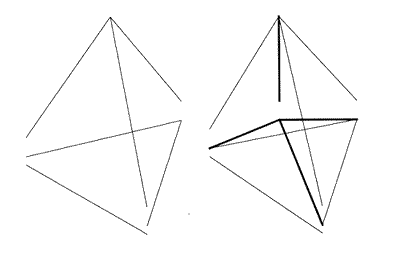
Тетраэдр
средового подхода | | Гипертетраэдр
средового подхода | Когда надо было написать книжку о
социально-экологическом, где схлестываются озверелые экологи и социальные движения,
то для социально-экологической интерпретации среды это стало просто очень удобным
инструментом. Пройдя эту работу, уже невозможно поверить в то, что можно спроектировать
среду. Проектирование оказывается здесь внутренним элементом, компонентом гораздо
более сложной машины, в которой взаимодействуют разные типы деятельности и через
действие (взаимодействие) — разные типы социальных партнёрств. Книга под этим
названием была написана за безумный месяц в 1982 г. и вышла в «Науке» в 1984 г.
[Глазычев В.Л. Социально-экологическая
интерпретация городской среды. М.: Наука, 1984] На этом история не заканчивается.
Это потребовало ещё раз переписать историю — переписать её как историю действий,
как историю этих стерженьков, вбиравших в себя результаты взаимодействия того,
другого и третьего. Итак, если сегодня меня спрашивают, что такое проект,
я отвечаю, что это частная форма моделирования возможной действительности в
ряду других средообразующих действий. Это и есть персональная квазиэволюция
работы с проектированием. Замкнуть я хотел бы одним. По жизни приходится оказываться
в совершенно неожиданных ситуациях, вроде ситуации предвыборной борьбы в Москве
в 1999 году. Я был приглашен как эксперт — не как проектировщик, а как эксперт
почти что в естественно-научном подходе — для того, чтобы сделать «белую книгу»
о Москве. Т.е. собрать людей, найти независимых экспертов и с их помощью создать
и опубликовать текст, через который можно было бы реально противопоставить популистскому
знамени Ю.М. Лужкова нечто иное. Сразу возник главный вопрос: как найти
в Москве независимых экспертов, не получающих жалованья от мэрии в той или иной
форме? Понятно, что такие люди должны существовать в порах огромного города. Но
списка таких людей нет, в телефонной книге не написано, что такой-то — лучший
в городе эксперт по водоканалу, к примеру.
Такая ситуация порождала частное проектное действие, а именно
выстраивание взаимодействующей пары в условиях тотального
дефицита финансовых средств и оргвозможностей: в системе
горячей линии и Интернет-сайта
«Московская альтернатива». В нее надо было включить
принципиально непроектные элементы, включить замыкание горячей
телефонной линии и сайта, т.е. вывешивать на сайте результаты
телефонных обращений москвичей. Через эту нехитрую машинку
в течение сорока дней удалось-таки найти три десятка экспертов.
Я не утверждаю, что нашли всех, кого надо.
Но этого было достаточно. Введение понятие «достаточно» уже снимает проектирование.
Проектирование не бывает достаточным. Т.е. речь идёт о работе, которая
носит эклектичный характер, отталкивающийся от действия и цели. Никто ведь
не ставил задачи выиграть выборы, мы их выиграть не могли, но проиграть их
достойно и сделать публичную альтернативу — это была задачей. Проектно-программные
элементы включались сюда как кирпичики, из которых складывается образ действия,
чётко разложенного по времени до момента «Ч». Иными словами, я фиксирую
внимание на том, что в моей личной истории романа с проектированием расставания
с ним так и не произошло, но перемещение ценностных рядов, валентностей, происходило
постоянно, в сложной спирали, и, наверное, ещё не закончилось. Александров.
Что включает в себя эта конструкция моделирования и чем она отличается от научного
моделирования? Или это из той же серии? Глазычев. Но ведь слово «научное»
тоже недорого стоит. Я подчеркивал в самом начале: «модель ещё не существующего
объекта». Научный подход не работает с несуществующими объектами. Только в старой
схоластике такой опыт был, дальше его выкинули за ненадобностью. Различение здесь
есть. Кроме того, не надо заниматься магией слов. Мы говорим «проект». По-английски
вы прочтете «architectural drawing» — «архитектурный чертеж», или «дизайнерский
чертеж». В старой литературе вы найдёте «план» в смысле «программы», «проекты»
— как ГОЭЛРО. Поэтому здесь меня заботят не слова, не ярлыки. Я пытался
обратить внимание на движение в этой логике: внутренне непротиворечивая модель
— внутренне конфликтная модель — встроенная модель. Княгинин.
Но каждый раз Вы воспроизводили парадокс. И в непротиворечивой модели должен быть
парадокс, и в противоречивой — парадокс. Т.е. проектное движение было от того,
что имеется, к парадоксу. Глазычев. Конечно. Княгинин.
В этом смысле Ваш рассказ о личной истории — это путь от парадокса к парадоксу.
Глазычев. Но по Гегелю следующий парадокс снимает в себе предыдущий.
А проектирование парадоксально по определению, тем более, если оно встроено
в инновационную психообрамлённость, в инновационную мотивацию, когда Я появляется.
«Я новое должен сделать». Это у нас с XVII века утверждается, а зарождается ещё раньше. А как же здесь не быть парадоксальному? Ведь появляется другое представление
о том, как все должно быть сделано: «Я знаю, как должно быть». Верховский.
Вы говорили, что в процессе своего движения Вам приходилось несколько раз писать
историю заново. Что есть этот вопрос по принципу? У меня есть подозрение, что
этот процесс есть по принципу подведение оснований под новую целостность, которая
создаётся в результате реализации проекта. Глазычев. И так, и наоборот.
Опять это парадоксально. С одной стороны, скажем, написание истории как деятельность,
конечно же, подводит итог усомневанию предыдущего периода. Разумеется, немедленно
открывается возможности видеть следующий слой — то, о чем я только что говорил:
увидеть диалогический процесс. И вы опять должны писать все заново, потому что
вы написали предыдущую историю с монопозиции. Вы, конечно, расставляли других
фигурантов, чем предшествовавшие историки, но через видение героя. Если вы
вошли в диалогическую схему, вам придётся идти обратно. Помните, было
такое понятие «социальный заказ»? Оно дурацкое, но не совсем. Потому что есть
в нем элемент предчувствования — того Weltgeist’а, который, блуждая над водами,
ждет, когда ему подарят мир. Возникает, скажем, интерес к тому, что делал великий
Барнум, первый настоящий продюсер, в 70-е годы XIX века превращающий все что угодно
в коммерчески эффективное шоу — от собственного дома до приезда оперной певицы
в Америку, от свадьбы карликов до слона, на котором ездит юный Черчилль. Переписывание
истории есть расстановка других исторических героев. Массы там будут функционировать,
народы или персонажи, но сколько будет задачек переосмысления, сколько будет усомневаний,
столько раз историю надо будет писать заново. Верховский. Можно
ли сказать, что это одновременно и утилизация предыдущих проектов? Глазычев.
Я об этом не думал. Слово «утилизация» мне не очень нравится, но, может быть,
Вы правы. Акопян. Не могли бы пояснить, образом чего является та
схема, где стержнями является программирование, проектирование, планирование,
а объединяет все стержень действия? Глазычев. Я могу ответить, что
это образ «всего». Я не совсем шучу. Если Вы мне сможете показать, что этих проекций
недостаточно для грубого представления всех остальных подходов, я попрошу Вас
показать мне новую геометрию. Если Вы мне докажете, что этих четырёх элементов
недостаточно для огрубленного представления деятельностного мира, если Вы покажете
другую модельку, я с Вами соглашусь. Мамин. Есть история создания
империй Билла Гейтса, Кардена, Мацусита. Как Вы представляете историю этих проектов
и их реализации? Глазычев. Это требует монографической честной работы,
которая не берет на веру то, что Гейтс пишет в своих изданных книжках, которая
поднимает как можно более реальную историю того, что действительно оказалось стержнем.
Вроде бы, стержнем истории Гейтса оказывается потрясающее непроектное озарение,
что железо не обязательно привязывать к программе, программу необязательно привязывать
к железу, на чем все остальные держались. Вроде бы это было рывком. Но
я всерьёзэтого не исследовал. Книжки его я прочел. Книжки тех, кто его терпеть
не может, тоже посмотрел. Но это особая история, в которой элементы проектных
движений будут сложно переплетены с озарениями, со случайностями, с программными
действиями. Нам придётся вскрыть, что за оркестр из разных музыкантов стоит за
именем «Билл Гейтс», и как складывались их отношения с Apple, и в чем было озарение
и движение Apple Macintosh. То есть, надо написать историю этих империй. Я не
готов это сделать. Я подозреваю, что переплетение всех элементов — программных,
проектных, непроектных действий и планов — обладает здесь и уникальным паттерном,
и, может быть, универсальным. Но чтобы ответить на это «может быть», надо смотреть
другое.
Единственное, что я по-настоящему исследовал в этом ключе,
это историю двух фирм — Olivetti
и Braun. Об остальных я
не в состоянии ничего сказать.
Я этого не изучал. |